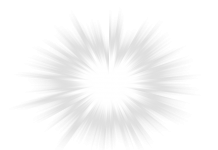Я проснулась от жутчайшего сушняка. Сгустившаяся до консистенции творога слюна шуршала на языке. Я вылезла из-под хрустящего одеяла, которым укрыл меня Адам, и на цыпочках прокралась за водой на кухню. Даже угнетаемая безжалостным похмельем, я боялась разбудить Адама, чуткий сон которого мог быть прерван еле слышимым шорохом, доносимым из-под моих стоп, когда пятки касались паркета.
Утолив жажду, я взглянула на настенные часы. Всего половина шестого, значит, прильнув к Адаму, можно проспать ещё часа полтора. Но не тут-то было, живот свело так, будто я не текилу оливками закусывала, а селёдку прокисшей ряженкой запивала. Видимо, мой обезвоженный организм решил отомстить мне за алкогольно-гастрономические надругательства, которым я подвергла его вчера.
Добрых минут пятнадцать я провела на керамическом троне. Облегчение меня настигло такое, словно не масса тела на килограмм уменьшилась, а с души упал неподъёмный камень прошлых обид. Утреннее испражнение подобно полёту в космос.
С лёгкостью в кишечнике я прокралась обратно к кровати и, как кошка, проскользнула под одеяло. Адам уже не спал.
-Просралась?
-Не то слово. Пришлось руками держаться за края унитаза, чтоб не взлететь наверх, как ракета.
Усмехнувшись, Адам перевернулся на правый бок, и я голой грудью прижалась к его спине. Закинув назад руку, он нащупал мою ладонь и потянул её к своему животу. Мы уснули.
Чуть менее чем через час, без пятнадцати семь, зазвенел будильник. Адам собирался на работу, а я на зачёт. Проставить мне его должны были автоматом, потому накануне ночью я и позволила себе расслабиться. Хотя и полноценная сдача международного частного права на втором курсе магистратуры не помешала бы мне напиться до полуобморочного состояния. Зачёт можно пересдать, а подруге детства двадцать пять исполняется один раз.
О вчерашнем Дне рождения Л. напоминало не только чудовищное похмелье, выворачивавшее наизнанку мой проспиртованный организм, но и пара скомканных тетрадных листов на рабочем столе – черновиков моего письма имениннице. Разгладив их, я попыталась разобрать свою неаккуратную писанину, нечитаемость которой усугубляли неудачные попытки сфокусировать взгляд на одной точке.
Моя дорогая Л.,
Не помню, когда в последний раз своим корявым неразборчивым почерком я писала кому-то вот такое живое, настоящее письмо на обрывках тетрадных листков. Хотя вру, помню. Я писала тебе, когда нам было лет по двенадцать, и мы были глубоко убеждены в том, что весь этот долбанный мир, мать его, будет у наших пухлых детских ножек.
Что бы тебе сказала Л., которой ты была в двенадцать, если бы встретила тебя сегодня, когда ты переступила границу в четверть века? Думаешь, та неугомонная малышка напомнила бы тебе о десятках своих юношеских иллюзий, которые растворились в кислоте тошнотворной жизни взрослых, в которых мы имели неосторожность превратиться? Да нет, наверняка, она бы поразилась тому, какой ты стала красивой и женственной. Пожалуй, всё. Ибо иных изменений она не обнаружит. Ты всё так же добра и отзывчива, весела и жизнерадостна, как и тот неуправляемый подросток в бандане с Эминемом. Посмотри вокруг: даже подруги рядом сидят всё те же. Ты по-прежнему готова бросить чашку недопитого свежезаваренного чая и броситься на помощь родным и близким. А главное, в твоём словаре, между статьями об «уверенности» и «уюте» торчат клочки от вырванной страницы со статьёй об «унынии». Ничему так и не удалось сломить тебя и заставить хоть на миг отчаяться, и это, чёрт побери, всегда восхищало меня в тебе.
Двенадцатилетней Л. захотелось бы быстрее вырасти, чтобы скорее стать двадцатипятилетней красавицей. И я искренне надеюсь, что тридцативосьмилетняя Л. Владимировна, супруга достойнейшего из мужчин и мать как минимум двух прелестнейших ребятишек, не разочарует двадцатипятилетнюю Л.. Для этого тебе достаточно лишь уберечь свою веру в добро. Среди людей немало отморозков и ублюдков, но светлых и порядочных людей не меньше, а ты – главное тому подтверждение.
Будь счастлива, моя дорогая, люби и будь любимой, пусть исполнятся все твои мечты, и помни, где бы я ни была, я всегда рядом.
Твоя маленькая Греция,
Н.
Довольно опустив уголки губ, я положила черновики в верхний ящик стола и пошла в ванную. Высшей степенью проявления моей наивности стала уверенность в том, что холодный душ привёл бы меня в чувство. Благо, пока я, тяжело вздыхая, старательно прятала за тройным слоем тонального крема пандовые круги под глазами, Адам поставил передо мной стакан воды, в котором были растворены две шипучие таблетки Алкозельцера.
-Спасибо, родной.
Проведя тяжёлой ладонью по моим ещё не высохшим волосам, Адам потянулся за своими наручными часами, лежавшими на трюмо возле стакана. Носил он часы по-путински на правой руке.
-Тебя подвезти?
-Мне сегодня к десяти. На метро доеду.
-Тогда до вечера. Люблю тебя.
-И я тебя люблю.
А потом Адам поцеловал меня. Поцеловал так, как целовал каждое будничное утро в семь сорок пять, уходя на работу, и на протяжении тех полутора лет, что мы просыпались вместе, запал его утреннего поцелуя остыть не успел. Даже моему чудовищному похмелью не удалось сломить хрустальную чистоту, парившую в утреннем воздухе нашей спальни. То утро отличалось от пятисот пятидесяти предыдущих наших утр лишь тем, что оказалось последним нашим утром.
В девятнадцать двадцать пять Адам позвонил мне, сообщил, что выходит из офиса и попросил пожарить для него говяжий стейк. Где-то без пяти восемь машина Адама выехала на Ленинский проспект. В двадцать часов ноль две минуты мой супруг Адам Петровский попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался на месте. А сукин сын, по вине которого, будь он проклят, произошла авария, разделившая мою жизнь на величественное до и гнусное после, отделался сотрясением мозга.
Я часто восстанавливаю в памяти хронологию того утра, приписывая каждой минуте определённое движение, шорох, запах, взгляд. В шесть сорок восемь Адам встал с кровати. С шести пятидесяти трёх до семи десяти в ванной шумела вода. В семь пятнадцать в комнате воцарился аромат свежезаваренного кофе. В семь сорок пять Адам меня поцеловал. А через двенадцать часов и семнадцать минут Адама не стало.
В день похорон Адама майское солнце прогрело воздух до двадцати шести градусов. Моя мама лениво обмахивалась тёмно-синим веером, тётушка Адама по материнской линии то и дело вытирала выступавшие над губой капли пота. Из-за невыносимой жары мне пришлось снять пиджак, подмышечные области которого увлажнились и обозначились едва заметным белым контуром.
Близкие, соболезнуя, как один, повторяли: «Теперь у тебя есть свой ангел-хранитель». Со скорбным молчанием я благодарно кивала им в ответ и лишь с Л. поделилась взглядом соучастницы общего преступления. Она, как и я, знала, что ангел-хранитель есть у каждого человека с рождения. Мой ангел-хранитель и мой покойный муж – теперь родственники, и оберегают меня вместе.
Вновь градом посыпались осколки слёз, острые края которых изрешетили мою душу. Мной овладело до омерзения странное чувство, словно из груди вырвали сердце, перемололи в фарш, смешали с дерьмом, вставили обратно и, даже не зашив разрез, поимели в душу. Я беззвучно зарыдала. Лучше не родиться женщине, которой предначертано стать молодой вдовой.
Кто-то передал мне упаковку бумажных платочков и мягко погладил по плечу. В ласковом прикосновении я признала маму, стоявшую слева от меня. Повернув к ней заплаканное лицо, я нахмурила от удивления брови: рядом со мной находилась не мама. Нас с ней разделял стоявший между нами светловолосый молодой человек лет девятнадцати-двадцати, тоскливый взгляд которого излучал подлинное сострадание. Невзрачная внешность юноши вызвала во мне желание сбегать до ближайшего магазина канцелярских товаров и купить упаковку цветных карандашей, чтобы раскрасить эдакого человека-раскраску.
-Разделяю Ваше горе, — промолвил он, не убирая руки с моего плеча.
Я поблагодарила его кивком.
-А Вы..?
-Меня зовут Виктор.
-Вы коллега Адама?
-Нет. Мы не были знакомы с господином Петровским, но я давно наблюдал за Вами.
-Простите? — еле слышно выдохнула я.
Горечь во рту приобрела на столько мерзкий вкус, что хотелось выплюнуть на землю собственную челюсть.
-Мне было известно, что господин Петровский уйдёт.
Я оглянулась, уверенная, что кто-то из стоявших рядом это слышал, но на моё удивление, ни моя мама, ни родители Адама даже не смотрели в нашу сторону.
-Какого чёрта ты несёшь?
-Вы когда-нибудь слышали о «Жизни без боли»?
-Как же низко — искать клиентуру на похоронах. Клубов вам мало что ли, торчки проклятые? — с досадным недовольством я разочарованно покачала головой.
-Я не продаю наркотики, — Виктор обхватил своей влажной ладонью мой напряжённый кулак. — Рано или поздно наркотики бы Вас уничтожили, а я предлагаю Вам жизнь без демотивирующих факторов.
Моё нутро взбурлило от омерзения, к горлу подступил лёгкий приступ тошноты. Абсурдность всей ситуации усугублялась тем, что появление Виктора, кроме меня, не заметил никто, а на наши маразматичные реплики ни один из присутствующих не обернулся, словно произносились они на не доступных человеческому слуху децибелах.
-Я даже не знаю, что хуже: пользоваться психологической уязвимостью молодой вдовы, втягивая её в психотропное болото дури, или пытаясь завербовать в свою секту? Уйди отсюда. Ради памяти моего покойного мужа, — устало протараторила я сквозь зубы. — Проваливай! – я попыталась оттолкнуть Виктора и выронила пиджак.
Непоколебимый парень поднял его, встряхнул и вернул мне. Я молча взглянула в серые, как ноябрьское московское небо, глаза Виктора.
-Увы, но Вы не первая, кто называет «Жизнь без боли» сектой. Однако это не так. Я уйду. Но сначала я открою Вам «Жизнь без боли», — Виктор вытянул вперёд руки и дотронулся до моих висков, обрамив моё лицо своими влажными ладонями.
Повторный приступ тошноты добрался до гланд, мерзкое прикосновение холодных пальцев Виктора вызвало во мне жуткое отвращение, я крепко зажмурила глаза, однако состояние пробирающего до костей дискомфорта продлилось недолго. Спустя мгновенье я испытала резкое облегчение, подобное лишь долгожданному акту дефекации после длительного запора. Не понимая, какая таинственная сила столь внезапно меня окрылила, я расслабила мышцы лица, спокойно открыла глаза и, мягко говоря, остолбенела: я стояла посреди длинного светлого коридора возле комнаты номер восемьсот два, дверь которой была приоткрыта. Я толкнула её плечом и хотела пройти вглубь помещения, но стоило мне сделать шаг, один лишь выпад правой ногой, как я вдвое сложилась от внезапной Боли, беспощадной пилой разрезавшей мою диафрагму пополам. Обессиленная, я упала на колени и, прижав к груди дрожавшие руки, пыталась разорвать ими грудную клетку и вытащить из нее заживо сгнившую Боль. Я уронила на пол голову и беззвучно завыла, каждый вдох давался мне с такой нестерпимой Болью, что хотелось раздавить себе лёгкие, лишь бы больше не дышать. Мне знакомо это состояние: ко мне вернулась Боль, которой я живу с того момента, как не стало Адама.
Я медленно подняла корпус тела в надежде найти в себе силы встать на ноги и идти дальше и увидела перед собой Виктора. Похороны продолжались.
-Ну, что, Вам понравилась «Жизнь без боли»? Или мне всё же уйти? – безуспешно скрывая самодовольство, спросил меня, объятую страхом, Виктор.
Необходимости отвечать на его вопрос не было: в моём испуганном взгляде читались и ликование, и потрясение, лишавшие меня потребности произнести вертевшееся на языке: «Что это, чёрт побери, было?»
Виктор молча отвернулся и направился в сторону припаркованных возле главной дороги машин. Словно загипнотизированная, я медленно последовала за ним и, пройдя три-четыре метра, обернулась в надежде, что хоть чей-то ошарашенный взгляд меня остановит и заставит вернуться обратно, но моего отсутствия не обнаружил никто. Ни один взор не был обращён в мою сторону, можно подумать, уход вдовы с похорон мужа – неотъемлемая, традиционная часть погребальной церемонии.
Я ускорила шаг и догнала Виктора.
«Жизнь без боли» находилась на другом конце Москвы, не удивительно, что Виктора как менеджера по работе с ключевыми клиентами компания обеспечила корпоративным автомобилем. Трудовой функционал Виктора заключался в привлечении клиентуры непосредственно на панихидах и похоронах, поэтому выполнял он работу преимущественно разъездного характера.
В машине Виктора было включено радио «Ретро FM», которое, как ни странно, меня вовсе не раздражало. Заиграл «Странник мой», и я цинично усмехнулась. Пожалуй, в жизни каждой женщины наступает момент, когда она начинает понимать, о чём поёт Аллегрова.
Я атаковала Виктора миллионом «что, как, зачем», и он попросил меня дождаться приезда в офис, где он не только мне подробно расскажет о «Жизни без боли», но и наглядно продемонстрирует, как функционирует эта не известная мне организация, но по пути ему необходимо заехать ещё за одним клиентом.
Испуганным недовольством отразилась на моём лице мысль о том, что не успела я в прямом смысле предать земле тело покойного мужа, как во второй раз на день побываю на похоронах. Отличавшийся развитым эмоциональным интеллектом Виктор предложил мне переждать это время в баре у ближайшей станции метро. Я слышала историю о сбежавшей со свадьбы в бар невесте, но о сбежавшей с похорон мужа вдове – никогда. Значит, буду первой.
В баре, у двери которого меня высадил Виктор, был всего один посетитель, чему, принимая во внимание день недели и время суток, я удивлена не была. Меня скорее немного ошарашила степень алкогольного опьянения одинокого выпивохи, бесцеремонно разложившего телеса за барной стойкой. Может, он вчера жену похоронил?
Меньше всего на свете мне хотелось с кем-либо вступать в диалог. Присев за ближайший столик у стены, я робко кивнула обратившей на меня внимание официантке, тут же подошедшей ко мне.
-Двойной эспрессо и воду без газа.
Мне всё ещё предстояло выслушать Виктора, ни о каком алкоголе и речи быть не могло, хотя вязкий кубинский ром я была готова принять хоть внутривенно.
Дожидаясь кофе, я невольно прислушалась к пьяной, а потому и самой искренней, исповеди мужчины за баром. Бармен слушал его с непритворным почтительным состраданием, которому следовало бы поучиться многим священнослужителям.
Где моя Мария? Красавица, ты не видела мою Марию? — пристал пьяница к официантке, нёсшей на подносе мой заказ.
Ни единый мускул не дрогнул на лице невозмутимой девушки.
Мария была моложе меня на четырнадцать лет, физиологически я мог бы быть её отцом. Мой первый сексуальный опыт состоялся с одноклассницей старшего брата, когда мне было тринадцать. Теоретически, если бы она тогда забеременела, и мы бы жили в Средневековье, в четырнадцать я бы уже стал отцом. Однако два месяца назад мне исполнилось сорок, и детей у меня нет. У меня есть только Мария, а у Марии меня нет.
Представляю, сколько раз пришлось выслушать печальную историю о Марии сердобольному бармену, терпение которого не могло не вызвать во мне восхищения.
Мария ушла от меня в ноябре, но я её не отпустил. Она до сих пор живёт во мне, словно паразит.
Надо было мне заказать метр текилы и выпивать по стопке каждый раз, когда охмеленный Ромео произносит имя Богородицы.
Я рассказывал Марии о своих женщинах, но слова не хотел слышать о её прошлом. Мария покорно молчала. Она всегда защищала моих женщин и видела причину всех моих расставаний в моей ослиной натуре.
Где же чёртов Виктор?
Мария имела обыкновение носить настолько короткие юбки, что при желании прохожие могли увидеть шейку её матки. Когда мы шли за руку по улицам, мужчины оборачивались на Марию и вожделенно рассматривали её ноги. Мне до сумасшествия льстила мысль о том, что из всех встретившихся на данном этапе её жизни мужчин выбрала она именно меня.
Какой же дурой была эта Мария, раз связалась с тобой.
Я крепко сжимал руку Марии и возбуждался от направленных в её сторону мужских взглядов.
В каждой из нас живёт Мария.
Моя прекрасная Мария.
Все мы немного Марии.
Мария бросила меня в ноябре, самом отвратительном месяце года. Если бы Господь давал нам выбор, в каком месяце умереть, я бы выбрал ноябрь. Мария ушла, сказав, что от любви крылья должны расти, а не сгнивать. Наверное, дело в моей ослиной натуре, да, у ослов же крыльев нет?
Ответа бармена я не дождалась – наконец-то, за мной вернулся Виктор, оплатил мой кофе («представительские расходы») и за руку повёл наверх к машине, на заднем сидении которой сидел пожилой мужчина с тонкими губами. Мы безмолвно обменялись взглядами, значившими в тот миг больше, чем сотни страниц толковых словарей всех языков мира.
За оставшуюся до офиса «Жизни без боли» дорогу не было обронено ни единого слова.
Когда мы вошли в главное здание «Жизни без боли», на ресепшен нас никто не встретил и отвратный кофе из аппарата не предложил — в холле никого не было. Наш новый попутчик молча направился в сторону центральной лестницы и уверенной походкой поднялся по ней. Не дождавшись от меня вопроса, Виктор уже ответил: «Он здесь не впервые».
Мы же с Виктором остались в пустом фойе, оборудованном сенсорными мониторами, похожими на старомодные терминалы для пополнения счёта мобильного телефона. Виктор подошёл к одному из них и, дотронувшись до экрана, вошёл в главное меню. Выбирая необходимые настройки, он ловко скользил подушечками пальцев по дисплею. Затем из встроенной в аппарат мигающей зелёным светом прорези показалась белая пластиковая карта, Виктор вытянул её и вручил мне. На ней виднелась полустёртая надпись «Гость», под которой красовался выведенный крупным шрифтом номер 802.
-Восьмой этаж, неужели, — заговорщическим шёпотом сердобольно выдохнул Виктор и вырвал из моей грудной клетки сердце, замотанное, словно клубок, чёрными меланхолическими нитями.
Выдёргивая их комками, Виктор небрежно швырял клочки чёрных веноподобных наростов на пол, к моим ногам. Освобождённое от траурных паразитов сердце уменьшилось до размеров куриного яйца второй категории. Поднеся его ближе к глазам, Виктор ногтем стряхнул с него пару оставшихся чёрных точек и поместил на место. На сотую долю секунды я повторно испытала облегчение, дарованное мне Виктором на похоронах, как вдруг из моей грудной клетки раздалось загадочное жужжание, и хозяйствовавшая в ней Боль вновь стянула сердце чёрными жилами скорбных гематом.
Виктор стыдливо опустил глаза, и по его губам я прочитала безмолвное «мне жаль». Мы поднялись на восьмой этаж.
Когда двери лифта плавно раскрылись, моему взору открылся уютный холл с четырьмя стильными креслами и низким стеклянным журнальным столиком по центру.
-Прошу, располагайтесь, где Вам удобно, — предложил Виктор.
Я присела на краешек кресла, стоявшего лицом к лифтам, а Виктор – слева от меня. Он небрежно коснулся указательным пальцем столика, в блестящей поверхности которого активизировался встроенный в неё цифровой экран. Повсеместное присутствие новейших технологий наводило на мысль о том, что Виктор – единственный сотрудник «Жизни без боли» из плоти и крови.
После короткой вступительной анимации на настольном дисплее высветились настройки языка презентации. Прокрутив список вниз, Виктор выбрал русский, и возникшая на следующем слайде надпись «Добро пожаловать в Жизнь без боли» ознаменовала начало долгожданного рассказа.
«Жизнь без боли» — беспрецедентный проект мирового уровня, основателем которого является американец греческого происхождения. Созданная им в начале шестидесятых организация имеет представительства в нескольких десятках стран мира и призвана оказывать психологическую поддержку тем, кто потерял своих Косточек.
Косточками в «Жизни без боли» именовали тех, кому в течение текущего календарного месяца предначертано отправиться в последний путь свой ногами вперёд. Однако чтобы стать Косточкой, иметь невидимую метку смерти на лбу не достаточно; принципиальное значение имело то, чтобы Косточка была до безумия любима. Так, возлюбленный, терявший свою Косточку, становился подобен сломленному пополам почерневшему яблоку, из которого извлекли сердцевину и обнаружили, что оно сгнило, и становился потенциальным клиентом «Жизни без боли».
Пациента размещают в уютной комнате, не уступающей по своей комфортабельности палатам-люкс традиционных элитных клиник, и обеспечивают качественным трёхразовым питанием, меню которого составлено в соответствии с его гастрономическими и диетическими предпочтениями. Клиента изолируют от внешнего мира, лишая возможности контактировать с людьми. Ни о каких смартфонах и планшетах речи быть не должно, слушать музыку и читать тоже запрещено. Еду по комнатам в определённые часы разносит глухо-немой персонал в чёрных солнечных очках, которому категорически запрещено улыбаться и смотреть в сторону клиентов. Ничего не происходит, никакие действия не совершаются, никого не видишь, ни с кем не контактируешь, никаких печальных или негативных эффектов и противодействий нет, соответственно, овощная лёгкость овладевает телом.
Зачем взлетать, если придётся упасть? Зачем иметь, если суждено потерять? Зачем вообще совершать какие-либо действия и телодвижения, если, в конце концов, всё полетит к чертям? Время лечит, да? Скажите это матери, потерявшей сына, или вдове, лишившейся любимого мужа. Через несколько лет, возможно, боль и утихнет на полграмма. А пока хочется разбить себе голову о батарею, и плевать, что позже станет легче. Больно-то сейчас.
В вашем распоряжении – лишь ваша скорбь. Плачьте. Вы должны нейтрализовать этот чёртов вирус. Плачьте. Период реабилитации каждого пациента сугубо индивидуален. Лишь когда вы выветрите из себя разрушительную инфекцию неутолимой горечи, вы будете готовы вернуться к нормальной жизни. Нажмите на красную кнопку над кроватью — администрация «Жизни без боли» автоматически получит Ваш запрос на прекращение реабилитации, Вы подпишете пару формальных бумажек об отсутствии претензий к «Жизни без боли» и вернётесь домой.
Смысл подобного добровольного заточения сводится к тому, что единственный способ жить без боли – это умереть, совершить психологическую эвтаназию, дышать и питаться, поддерживая полноценную жизнедеятельность тела, но лишить пищи свой ментальный организм. Жизнь и боль сопряжены более тесной связью, чем жизнь и смерть.
Восьмой этаж, на который я получила направление, был местным хосписом, сюда попадали те, кому «Жизнь без боли» вернёт стимул жить дальше: симптомы заболевания устранит, абсцесс обеззаразит, гной из болячки выведет, да и процесс заживления облегчит на столько, на сколько это возможно в сформировавшихся условиях, однако нанесённое потерей увечье не исцелит. Рана затянется, а рубец останется.
Но, даже зная, что от царапины останется шрам, мы старательно смазываем телесное повреждение лечащей мазью, дабы ускорить его заживание…
-Ваша палата, проходите. – Виктор проводил меня в тот самый восемьсот второй номер, – располагайтесь, скоро Вам принесут обед, — не попрощавшись, он вышел из комнаты.
Дверь затворилась, и моя «Жизнь без боли» началась.
Я плакала, засыпала и просыпалась, чтобы снова плакать. Выделенной моими слёзными железами жидкости хватило бы на наполнение небольшого детского биобассейна. День сменялся ночью, завтрак обедом, сон плачем. Я вспоминала каждый прожитый с Адамом день, наше знакомство, первое свидание, как я переживала, когда ему удаляли аппендицит, как он повёз меня знакомить с родителями в их загородный дом, где, заперевшись в ванной, мы всю ночь пролежали в пустой джакузи, целуясь, как кони на водопое.
Каждую ночь мне снился Адам: то в искажённых сценах из нашего прошлого, то в виртуальных событиях, которым уже не произойти. А иногда он стоял возле окна, улыбался, бывало, что-то говорил.
В одном из моих снов мы с Адамом плыли в лодочке по коридорам пражской гостиницы, в которой остановились во время нашего последнего совместного отпуска. Адам молча грёб веслом, а потом вода в коридоре внезапно замёрзла, и наша лодка остановилась. Выпрыгнув на оледеневшую поверхность, Адам взял меня на руки, и пошёл вперёд, медленно, аккуратно, утиными шажками, чтобы не поскользнуться и не уронить меня. Мне стало холодно, и я проснулась. На полу лежало скинутое во сне одеяло.
А однажды мне приснилась наша свадьба. Сон досконально повторял самый счастливый эпизод нашей жизни. Не было никаких автобусов с родственниками и аккордеоном. Мы рванули на Карибы, и вместо загса у нас был пляж, вместо подвенечного платья — белое бикини, и у нас была наша любовь, чистая, как колумбийский кокаин.
Но все эти пресные сны являлись лишь плодами моего овдовевшего подсознания. Настоящий Адам пришёл ко мне лишь раз, через неделю. Сгусток энергии, отделившейся от его разлагающегося под землёй тела, сидел на краю моей кровати и глазами, полными нестерпимой нежности, смотрел на меня. Я вскочила и бросилась к Адаму с грубым объятием.
-Не уходи, пожалуйста, останься, ты нужен мне.
-Я знаю.
Это был Адам, я чувствовала, я знала.
Наутро у меня появился аппетит, и впервые за время моего нахождения в «Жизни без боли» я съела весь завтрак. Если бы за подносом пришла не безликая девушка в очках, а моя бабушка, то, наверняка, она бы меня похвалила.
А спустя пару дней я нажала на красную кнопку над кроватью.
Боль не исчезла и не ослабла, да и не ослабнет никогда, нет никакой Жизни без боли. Боль будет грызть меня изнутри, и я не смогу ей противостоять, и никакое время её не вылечит, оно лишь научит меня с ней жить, не присоединившись к нескончаемому списку пропавших без вести в её бесконечной оболочке. Ради памяти Адама, ради мамы и ради себя.