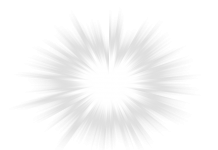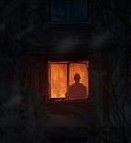«Тот, кто не знает прошлого, не имеет будущего».
Академик-историк П.Тарле.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошло более 77 лет со дня внезапного нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года, но страсти вокруг вопроса внезапности нападения не утихают до сих пор. Время потребовало опровергнуть, научно-популярным методом, официально закрепившийся в литературе и учебниках тезис о внезапности нападения Германии на СССР. Так, о чем и о ком данная книга? Книга охватывает всего два – два с половиной месяца с начала очень тяжелого и страшного для советского многонационального народа лета 1941 года. Для более полного понимания происходивших событий, их причин и последствий первые три главы, из двенадцати, охватывают время накануне Великой Отечественной войны ‑ с января по 22 июня 1941 года, международные и военные аспекты, конкретные шаги и планы высшего государственного, партийного и военного руководства СССР.
Следующие семь глав посвящены боевым действиям дивизий, механизированных корпусов, армий и соединений Красной Армии на территории Белоруссии. Посвящены героизму и самоотверженности советских воинов – пограничников, пехотинцев, танкистов, летчиков, а также советских патриотов из местного населения, как в западных, так и в восточных областях республики; освещают проблемы эвакуации, создания и деятельности истребительных батальонов и подразделений народного ополчения. Раскрывается суть человеконенавистнического плана нацистов – плана «Ост», начавшегося осуществляться на оккупированной территории Белоруссии с первых же дней оккупации. Две последние главы посвящены действиям сотрудников госбезопасности и внутренних дел (с 20 июля 1941 года объединенных в один наркомат – НКВД) и их смертельной схватке с гитлеровскими спецслужбами.
Нами осуществлена попытка показать, на имеющихся материалах, мужество и героизм многих тысяч воинов Красной Армии, местных жителей и первых групп, и отрядов партизан, подпольщиков, чекистов, благодаря которым страшный вал, казавшихся непобедимыми, дивизий Вермахта замедлился, понеся существенные потери и ощутив чувствительные удары по своему тылу. Начало краха нацистского плана агрессии «Барбаросса» было положено в Белоруссии, где во многом был сорван график военных действий Вермахта на основном – Московском направлении. Когда было выиграно главное условие для развертывания успешной обороны и своевременной эвакуации промышленности на Восток – время, когда наиболее мощная военная группировка Вермахта, группа армий «Центр», застряла у Могилева, Гомеля, Витебска, Рогачева, Жлобина и других местах, когда гитлеровское командование вынуждено было во многом использовать свои резервы.
Максимально возможное внимание уделено выяснению объективных, и, особенно, субъективных причин разгрома первого эшелона Советских войск на западных границах и причин поражения второго эшелона в центральной части Белоруссии, причинам нашей неготовности к партизанской и подпольной борьбе, и тем трудностям для партизан и подпольщиков, которые проявились в борьбе с захватчиками на оккупированной территории Белоруссии. А также причинам больших потерь, срыву многих расчетов командования, отсутствия надежной технической связи и потерям многих баз с вооружением, боеприпасами, продовольствием, медикаментами.
Одной из задач является напоминание ныне живущим о подвигах, совершенных бойцами и командирами Красной Армии, партизанами, подпольщиками, чекистами, советскими патриотами, и назвать, по возможности, имена и фамилии, совершивших эти подвиги, отдавших свои жизни за нашу Победу над фашизмом.
Факты, приводимые в книге, в основе своей взяты из опубликованных за последние 30‑40 лет источников. Это не случайно, так как анализ и обобщение известных, но покрытых пылью времени, а то и вообще малоизвестных, или по разным причинам игнорируемых фактов, дает во многом другую историческую картину, чем та, которая сложилась в научной литературе за 73 года после Победы. Например, опровергается кочующий из книги в книгу, из учебника в учебник, в документальных кино и телефильмах, идеологический миф о внезапности нападения Германии на СССР. О численном превосходстве Вермахта в танках и боевой авиации, об игнорировании в Москве сообщений советской разведки о подготовке фашистской агрессии против СССР и в том числе против Белоруссии.
Опираясь на известные материалы и факты, мы освещаем вопрос того, как летом 1941 года Белоруссия оказалась в центре геополитических процессов в мире, и как сражения Красной Армии и борьба белорусского народа оказали самое непосредственное влияние на их ход в начале войны и на конечный исход этих процессов.
Материал книги построен по комплексному плану, излагает события накануне войны и с момента начала агрессии с разных сторон и по разным направлениям, сводя их к общей картине начала войны, причин наших неудач и как срывались планы немецких опытных генералов-штабистов, командиров дивизий и командующих армиями. Одновременно описываются и наши достижения: глубинный патриотизм воинов Красной Армии и местных жителей, организующую и руководящую роль Компартии Белоруссии. Ее партийных органов на местах, сотен и тысяч рядовых коммунистов и комсомольцев, беспартийных антифашистски настроенных людей в западных областях БССР, многие из которых были участниками освободительной борьбы белорусского народа на территории Западной Белоруссии, временно находившейся под властью Польши до 17 сентября 1939 года.
Было бы большим упущением, если бы на страницах книги не рассматривались ошибки, недостатки и просчеты, допущенные руководством страны, просчеты в сроках начала войны и фанатичная приверженность договору о взаимном ненападении. Сюда вписываются халатность, неумение руководить войсками, отсутствие авиации, артиллерии, танков, потеря на границе складов с оружием, боеприпасами, горючим из-за неразумного или умышленно неправильного их расположения, миллионы пленных и погибших, быстрая потеря территории. Все это из-за ошибочной предвоенной наступательной доктрины, слабого обучения молодого командного состава армии, шапкозакидательских настроений ‑ «на чужой территории, малой кровью, быстро», отсутствия боевого опыта у армейского командного состава в отличие от генералов Вермахта. Погоня за количеством, а не качеством, сворачивание в середине тридцатых годов проводившейся подготовки будущих партизан и подпольщиков. К недостаткам также относятся явное преувеличение наших сил и возможностей и сильная недооценка сил и возможностей противника, отсутствие планов эвакуации промышленности и людей, плохое представление условий действий партизанских подразделений и подпольных организаций после захвата врагом части, а затем и всей территории БССР.
Для полного понимания обстановки на вторую половину июня 1941 года в излагаемом материале не обойдены молчанием крайне странные действия руководства Западного Особого Военного Округа, которые могли быть вызваны как непрофессионализмом мало знающих, зато много о себе воображающих командиров. Их растерянностью и паникой после нападения нацистской Германии, так и не исключающейся возможности военного заговора, приведшие к самым трагическим последствиям для советских войск и складывающейся обстановки на Западном фронте. Только раскрытие архивов НКВД и новые обоснованные публикации смогут дать однозначный ответ на имеющиеся предположения.
Также не случаен упор по тексту на фамилии тех, кто жертвенно принял на себя первый, самый страшный удар Вермахта, кто уходил в тыл врага для организации народной борьбы, кто самостоятельно, в условиях смертельной опасности начинал создавать подпольные патриотические организации, совершать диверсии, вести разведку. К сожалению, не всегда в публикациях есть имена или инициалы, фамилии патриотов. В свою очередь для большего удобства прочтения материалов книги мы не стали указывать инициалы тех государственных, партийных и военных руководителей, фамилии которых часто повторяются в тексте.
Внимание в книге к фамилиям проявлено по двум причинам. Во-первых, при изложении исторического прошлого, о котором речь в книге, не должно быть абстрактности. Поэтому надо знать, по долгу памяти живущих, о тех, кто в самые тяжелые и трагические дни для народа и страны встал на их защиту. Во-вторых, у многих из них остались родные – сыновья и дочери, теперь уже, видимо, внуки и правнуки, родственники. И они вправе знать какие героические дела совершали летом 1941 года их отцы, деды-прадеды, и гордиться их подвигами. Эта книга как раз о тех, кто погиб в смертельной борьбе с нацистскими агрессорами, и о тех, кто выжил и после освобождения Белоруссии поднимал ее народное хозяйство, строил дома, новые заводы, дороги.
Мировая общественность высоко оценила вклад белорусского народа в уничтожение нацизма и фашизма, поэтому вполне заслуженно Белоруссия, наряду с Украиной, стала основателем Организации Объединенных Наций (ООН), в числе первых подписав ее Устав и Устав Международного Суда в июне 1945 года.
За прошедшие годы Белоруссия (Беларусь) претерпела кардинальные изменения в социальной и политической жизни Республики. Ее многонационального населения, что было бы невозможно без героической и трагической, для многих и многих, борьбы с гитлеровскими захватчиками летом 1941 года.
Все использованные в книге факты и материалы почерпнуты из обобщающих научных трудов по теме борьбы белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Из научных монографий белорусских и российских историков в части начала войны; публикаций газет, журналов, Интернета, воспоминаний тех лиц, которые принимали непосредственное участие в борьбе с фашистами летом 1941 года в Белоруссии; немногочисленных архивных данных. На все использованные источники указывают соответствующие сноски.
В технической подготовке этой книги, ее редактировании активное участие приняли наши друзья: член Союза журналистов СССР (до 1991 г.), член Союза журналистов Беларуси Татьяна Ионовна Петрова и специалист в области компьютерных технологий Валерий Алексеевич Букин.
Книга подготовлена и издана при финансовой поддержке чтящего память о патриотах нашей Республики, бойцах и командирах Красной Армии, партизанах и подпольщиках. И тех советских патриотах разных национальностей, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом за свободу белорусского народа, его счастливую жизнь и процветание Александра Николаевича Козюлько.
Авторы просят читателей свои отзывы, пожелания, архивные материалы, письменные воспоминания участников событий лета 1941 года в Беларуси присылать по адресу: Минск, ул. Кедышко, дом 23, квартира 53, Киселев Василий Кузьмич; Минск, ул. Толстого, дом 4, квартира 110, Шалимо Николай Петрович.
Этим вы окажете неоценимую услугу по более глубокой и детальной проработке вопроса феномена весны – лета 1941 года в Беларуси.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
НАКАНУНЕ
К концу 1940 года в мире сложилась следующая военно-политическая ситуация. Нацистская Германия Гитлера и фашистская Италия Муссолини заняли в Европе, за исключением территорий Англии и СССР, господствующее положение, а в Азии их мощным союзником выступала милитаристская Япония, захватившая большую часть территории Китая. Союзником Англии являлись Соединенные Штаты Америки с их колоссальной промышленностью и огромными природными богатствами контролируемой США Южной Америки. Будучи формально нейтральными, США всерьез опасались претензий Германии, которую поддерживали Италия и Япония, на мировое господство.
На стороне Англии были ее доминионы ‑ Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия. Германию, которая уже успела захватить одиннадцать европейских стран, поддерживали, оставаясь якобы нейтральными, Испания, Португалия, а также ее союзники: Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Финляндия. Боясь Германии, помогали ей Швеция и Швейцария, готова была выступить на стороне Германии и Турция.
В уже идущей, Второй Мировой войне, действительно нейтральным государством был лишь Союз Советских Социалистических Республик, строящий сталинскую модель социализма и успешно осуществивший в 20-е – 30-е годы индустриализацию, насильственную коллективизацию и культурную революцию. К началу Великой Отечественной войны это было единое, высокоцентрализованное государство с общим государственным, партийным, профсоюзным и комсомольским аппаратом, довольно мощной Красной Армией. И все они были объединены общей идеологией и строгой партийной и государственной дисциплиной. Население, особенно молодежь, воспитывалось в духе марксизма-ленинизма, неизбежности в, исторической перспективе, победы социализма сначала в Европе, а потом и во всемирном масштабе, готовности до последней капли крови защищать социальные завоевания советской власти, независимость и территориальную целостность родины. Неотъемлемой частью СССР была и Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая имела небольшую внутреннюю автономию, но не имела своей финансовой системы и своей армии, во многом была ограничена во внутренней политике и полностью – от участия во внешней политике. Республика все свои более-менее серьезные шаги вынуждена была согласовывать с Москвой и полностью выполняла все директивы, поступавшие из Кремля от руководства Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – правящей и единственной партии в СССР.
В общем, со значительными отступлениями, проводилась политика в интересах большинства населения – рабочих, колхозного крестьянства, советской интеллигенции, служащих. При этом надо учитывать, что хотя на словах провозглашалась диктатура пролетариата в союзе с трудовым крестьянством, на деле власть и экономическая, и политическая, и в сфере культуры находилась в руках партийно-советской бюрократии. Но, несмотря на серьезные недостатки в экономике в предвоенные годы (3-я пятилетка: 1938 – первая половина 1941 года) были серьезные сдвиги в лучшую сторону в положении трудящихся, и пусть и не большой, но все же рост заработной платы в промышленной сфере. Например, в стеклянной промышленности БССР в 1939 году по сравнению с 1938 годом среднегодовая зарплата рабочих увеличилась на 10,2%. Среднегодовая зарплата рабочих витебских предприятий «Красный металлист» и имени С.М.Кирова повысилась на 21,2%. А на одном из крупнейших предприятий не только в Белоруссии, а и в СССР «Гомсельмаш» зарплата рабочих стала весомее. Среднемесячная оплата труда увеличилась на 15%. Одновременно возросли денежные доходы на одну колхозную семью на 10%, выдача зерна на трудодень (минимум составлял 80 трудодней в год) ‑ на 19%. Конечно же, это не обеспечивало жизни трудящихся по принципу «как в Раю». В 1940 году среднемесячная оплата труда в колхозах СССР равнялась 12 рублям, в совхозах была 22 рубля, на промышленных предприятиях 34 рубля. Близкими к этим показателям были и соответствующие показатели оплаты труда и в БССР.
Белоруссия была в основном аграрно-промышленным регионом СССР. 70 процентов населения жило в сельской местности. Продукция сельского хозяйства, несмотря на серьезные ошибки и во многом неправильную политику в коллективизации, понемногу росла. Если в 1933 году урожайность зерновых культур в БССР была в колхозах 6,3 центнера с гектара, то в 1940 году уже выращивалось семь центнеров с гектара. Удой молока на одну корову в 1934 году равнялся 810 литрам молока, а в 1939 году он составлял уже 834 литра молока на одну корову.
Очень острой была жилищная проблема, особенно в связи с резким ростом городского населения в результате индустриализации. Но и она решалась. Если за всю вторую пятилетку (1933‑1937 годы) трудящиеся получили от государства 490 тысяч квадратных метров жилья, то за 3,5 года третьей пятилетки уже 490 тысяч квадратных метров. Естественно, что до полного решения жилищной проблемы было очень далеко. Перед войной на каждого городского жителя приходилось только 5,6 квадратных метров жилья. Надо отметить, что для решения жилищной проблемы искали и находили в итоги различные пути. Так в стране большой размах при поддержке государства получило индивидуальное строительство жилья. Будущие жильцы получали долговременный денежный заем. Руководству предприятий было рекомендовано оказывать помощь застройщикам строительными материалами, транспортом, рабочей силой. Таким образом, за годы третьей пятилетки было построено 90 тысяч квадратных метров жилья, что на 30 тысяч больше по сравнению со второй пятилеткой. В городах проводились водопроводные сети и канализация. К 1941 году водопровод был в шестнадцати белорусских городах, а канализация в шести. Самым крупным промышленным, транспортным и жилым центром республики стал Минск с 250 тысячами жителей в 1940 году, против 105 тысяч ранее.
Много внимания уделялось решению социальных проблем. К началу 1941 года на промышленных предприятиях насчитывалось 395 медицинских пунктов, а в 1938 году их было всего 282. В республике действовало 36 санаториев для взрослых и детей. Путевки в санатории во многом оплачивали профсоюзы. Было также 32 дома отдыха с общей численностью на 5500 мест. Почти все фабрики и заводы имели детские сады и ясли. В городах был осуществлен переход к обязательному семилетнему школьному образованию. Широкое распространение получило семилетнее образование и на селе. Развивалось и высшее образование. В высших учебных заведениях Республики обучалось 21,5 тысяч студентов. Успешно складывалась национальная интеллигенция, хотя некоторая ее часть была затронута массовыми политическими репрессиями в 1937‑1938 годах. По данным статистики на 1 января 1941 года в народном хозяйстве и учреждениях культуры работало 27,7 тысяч специалистов с высшим образованием и около 60 тысяч со средним, которых подготовили 31 высшее учебное заведение и 102 техникума. К началу 1941 года 85 процентов населения в БССР было грамотным.
Таким образом, белорусскому народу в войне против немецких захватчиков было, что защищать летом 1941 года и за что бороться в годы оккупации. Хотя, конечно, на первом месте была борьба за свободу и независимость Родины, против физического уничтожения и полного ограбления.
Как уже отмечалось, в Белоруссии не было своего Министерства иностранных дел, что лишало республику возможности проводить внешнюю политику даже через Москву, или самостоятельно вести внешнюю торговлю. Поэтому внешняя политика СССР являлась в тоже время на 100% внешней политикой БССР. Следует отметить, что в 1921‑1922 годах у БССР был свой МИД, но он был упразднен в 1923 году в результате образования СССР и добровольной передаче его функций в единое общесоюзное Министерство иностранных дел. С усилением тенденций централизации во второй половине 20-х годов была постепенно свернута и своя внешняя торговля. Общесоюзными были и пограничные войска, органы государственной безопасности, размещение, переброска командования, частей и соединений Красной Армии на территорию Белоруссии. Осенью 1939 года, без обсуждения в Минске и без согласия белорусского правительства, Литовской республике Москва передала Вильнюсский край с городом Вильно, а летом 1945 года
Польше отошла Белостокская область и некоторые районы Брестской области. Причиной отобрания белорусских земель в пользу других государств были политические расчеты тогдашнего руководства Кремля.
Надо иметь в виду, что осенью 1939 года произошло воссоединение Западной и Восточной Белоруссии и к пяти областям, находившимся в составе БССР с 1921 года – Минской, Могилевской, Витебской, Гомельской, Полесской, добавились еще вновь образованные пять областей ‑ Брестская, Белостокская, Барановичская, Вилейская, Пинская, а население увеличилось с 5,6 миллиона человек до 10,2 миллиона. Площадь республики увеличилась со 125,6 тысяч квадратных километров до 223 тысяч. Это стало возможным в результате двустороннего процесса: с одной стороны упорная борьба населения Западной Белоруссии за свое национальное и социальное освобождение, а с другой ‑ заключение 23 августа 1939 года пакта о ненападении между СССР и Третьим рейхом, и договора о дружбе и границах от 28 сентября 1939 года между ними в итоге военного разгрома Польши Германией и освободительного похода Красной Армии в Западной Белоруссии и Западной Украине в сентябре 1939 года.[1]
К осени 1940 года сложилась патовая военно-стратегическая обстановка в Европе. Нацистская Германия не смогла ни завоевать Англию военным путем, ни заключить с нею мир на своих условиях. Англия, доминионы и поддерживающие их Соединенные Штаты Америки не могли нанести поражение Германии, и ее союзникам. На море господствовала Англия, а на суше Германия. Воздушное наступление Германии на Англию летом и осенью 1940 года провалилось. Образно говоря, происходила битва слона с китом.
Но время играло против гитлеровской Германии. Постепенно США, не смотря на официальную политику «изоляционизм» и «нейтралитета», втягивались в европейскую войну. 17 декабря 1940 года Ф. Рузвельт заявил о необходимости оказать Англии помощь на основе ленд-лиза ‑ предоставления оружия и снаряжения взаймы или в аренду, а 29 декабря подчеркнул, что с нацистами ни одна страна не может жить в мире и что «США должны стать военным арсеналом демократии». 8 марта 1941 года законопроект о ленд-лизе был принят американским конгрессом. За годы войны США предоставили оружия, материалов, нефти и продовольствия Англии на тридцать миллиардов долларов. В тоже время США предоставили СССР помощь в три раза меньше ‑ всего на десять миллиардов долларов, и прекратили эту помощь в мае 1945 года, несмотря на все наши потери в численности населения и ущерб народному хозяйству страны в результате военных действий Германии.
Весной-летом 1941 года США добились согласия Англии и Дании на высадку американских войск и создания военных баз в Исландии и Гренландии, передали Англии 50 эсминцев в обмен на ряд баз в Вест-Индских Бермудских островах. В обстановке особой секретности Англия и США в марте 1941 года приняли план «АВС-1», который предусматривал ведение военных действий прежде всего против Германии.[2]
В этих конкретных условиях ‑ Второй мировой войны, многое зависело от позиции СССР при наличии у него большой армии и значительного вооружения. Политическая и военная верхушка нацистской Германии, руководствуясь принятой ими на вооружение идеологией антикоммунизма, последовательным антисоветизмом, немного «приглушенным» Пактом о не нападении, который был в глазах Гитлера и военно-политической верхушки исключительно временным явлением. И расчетами на установление своего мирового господства, уже в конце июня 1940 года приняли принципиальное решение о войне с СССР. Гитлер заявил высшему военному руководству: «Россия должна быть уничтожена весной 1941 года. Советское государство должно быть разрушено одним ударом». Вследствие военных действий против Югославии и Греции весной 1941 года срок начала операции против СССР был передвинут на конец июня.
Сначала стратегическое планирование проводила группа во главе с генералом Марксом, но после детального обсуждения представленного плана, по которому основной удар должен был быть через Украину на Москву, а вспомогательный через Прибалтику и Белоруссию на Ленинград, и проведения ряда оперативно-штабных игр, этот план отвергли. Новый план одновременного тройного удара на Москву, Киев, Ленинград силами группы армий «Центр», «Юг», «Север», разработали заместитель начальника Высшего Военного Командования (ОКВ) генерал Йодль, генерал Паулюс и полковник Хойзингер.
Главным был удар на Москву через Белоруссию и Смоленск войсками группы армий «Центр» (далее по тексту – ГАЦ). Замысел заключался в том, чтобы мощным ударом авиации и танков, при поддержке артиллерии и пехоты, прорвать фронт Красной Армии, окружить и уничтожить по частям ее соединения и быстро продвигаться вглубь страны, добивая остатки уцелевших войск и громя подходящие резервы. До 15 августа достичь Москвы, на юге овладеть Донецким угольно – металлургическим районом, а на севере завладеть Ленинградом, и до 1 октября завершить операцию против СССР, то есть до осенней распутицы и зимы. 18 декабря 1940 года этот план был утвержден Гитлером. План получил название «Барбаросса» ‑ по имени германского император проводившего военные походы против славян и активного проводника политики захвата земель, богатств и рабов на Востоке. В разгроме СССР гитлеровцы видели главное условие для успеха установления своего мирового господства.
Нацисты сделали все, чтобы это решение о войне с СССР в 1941 году и сам план операции «Барбаросса» были совершенно секретными. С этой целью было сделано всего шесть экземпляров плана, и они все были заперты в личном сейфе Гитлера и выдавались под бдительным наблюдением только представителя военной верхушки с обязательным и быстрым возвращением назад, а о сроках начала войны с СССР Гитлер говорил своему окружению только устно и неоднократно их менял. Запускались и явно провокационные, а то и недостоверные, преувеличенные слухи. Наряду с этим всячески пропагандировалась с осени 1940 года операция «Морской лев» по высадке десанта Вермахта в Англии весной-летом 1941 года, хотя на самом деле она была сначала отложена, а позже вообще свернута.
Но все потуги нацистов сохранить тайну плана «Барбаросса» оказались тщетными. Уже через десять дней, после принятия плана войны с СССР, о нем и основном его содержании, опираясь на. сведения советских разведчиков из среды немецких антифашистов, было доложено в Москву военным атташе посольства СССР в Германии генералом В.И. Тупиковым. Он сообщил о трех основных группировках Вермахта, которые будут наступать на Москву, Киев и Ленинград.
Несколько позже была от него информация о создании группировок войск на границах СССР. Одновременно из разных разведывательных источников поступали сведения, что Германия сосредотачивает для войны против СССР девять полевых армий, всего до 150 дивизий, состав которых постоянно нарастал. За два месяца (март-апрель 1941 г.) число развернутых дивизий у границ СССР увеличилась с 70 до 107, а в мае их было уже 119 дивизий. К 22 июня 1941 года Разведуправление Генерального Штаба Красной Армии, опираясь не только на сведения от заграничной агентуры, но и на информацию разведки западных пограничных особых военных округов ‑ ЗапОВО (Белоруссия), КОВО (Киевский), ОдОВО (Одесский), ПрибОВО (Прибалтийский), на начало войны, оценивало группировку войск Германии и ее союзников против СССР в 191 дивизию. Из них немецких 146. Эти данные весьма близки к немецким данным ‑ 199 и 154 дивизии соответственно. Так что советская разведка о силах и намерениях врага докладывала точно.
Еще 20 марта 1941 года начальник Разведуправления Генерального штаба Красной Армии Ф.И. Голиков представил руководству доклад, который содержал сведения исключительной важности. В нем излагались варианты возможных направлений главных ударов гитлеровских войск при нападении на Советский Союз в соответствии с планом «Барбаросса». Приводилось заявление крупного немецкого офицера: «Мы полностью изменили наш план. Мы направляемся на восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимы и можем продолжать войну с Англией и Америкой».
Очень важным было точное определение срока нападения. А вот с этим было много неясностей. Разведчики сообщили двенадцать разных дат на первую половину 1941 года. Одиннадцать дат прошли, а никакого нападения не произошло. Одно дело подтянуть, сосредоточить и даже развернуть войска, и, совсем другое дело, реально напасть. Это могло быть и провокацией, и заигрыванием, и игрой на нервах ради получения политических, экономических и даже военных выгод в ведущейся европейской войне, как со стороны Англии, так и Германии. То, что воевать в 1941 году придется, в Москве сомнения не вызывало. Весь вопрос ‑ когда?
Ради исторической правды надо отметить, что окончательный срок нападения ‑ 22 июня нацистское политико-военное высшее командование установило только двенадцатого июня, за десять дней до нападения отдав кодированный приказ изготовившемся к нападению на СССР войскам ‑ «Дортмунд». Так что колебания и нерешительность и Генерального секретаря ЦК ВКП(б), ставшего с 5 мая 1941 года и Председателем Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина, и Народного комиссара обороны С.К. Тимошенко, и начальника Генерального штаба Красной Армии Г.К. Жукова были вполне объяснимы. Страна и армия еще не были готовы к тяжелой и длительной войне с таким сильным противником как нацистская Германия и многомиллионный, до зубов вооруженный Вермахт. В докладе Ф.И. Голикова от 20 марта 1941 года указывался только ориентировочный срок: «… начало военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года». Наступило 16 июня, а никакой войны нет, тем более, что Голиков делает вывод: «Наиболее возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией и после заключения с ней почетного для Гитлера мира». Это было правдоподобно, ибо гитлеровцы сосредоточили в оккупированных портах Западной Европы до четырех тысяч судов, способных транспортировать до полумиллиона войск, а на побережье Бельгии и Северной Франции было сконцентрировано две армии общей численность в 25 дивизий.
Удалось ли советской разведке все же установить точную дату нападения Германии на Советский Союз? Да, удалось, но всего за несколько дней, а то и часов до нападения. Впервые эта дата прозвучала 16 июня в сообщении из Берлина, всего через четыре дня после отдачи сигнала «Дортмунд», а 21 июня ‑ в донесении военного атташе во Франции генерала Н.С. Суслопарова. В тот же день один из сотрудников посольства Германии в Москве сообщил, что нападение назначено на три часа утра 22 июня. Однако времени у советского руководства для активного противодействия практически уже не было. Крайне тревожные сигналы приходили и от разведки западных военных округов. Так в сводке разведотдела штаба Западного особого военного округа (Беларусь) от 21 июня 1941 года сообщалось: «1. По имеющимся данным, основная часть немецкой армии в полосе против Западного ОВО заняла исходное положение. 2. На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе. 3. Всеми средствами разведки проверяется расположение войск у границы и в глубине».
Тексты почти всех документов и радиограмм, касающихся военных приготовлений Германии и сроков нападения, докладывались регулярно: Сталину (два экземпляра), Молотову, Берии, Ворошилову, Наркому обороны Тимошенко и Начальнику Генерального штаба Жукову.
Свою невольную лепту в преуменьшении сил вражеской армии, наряду с совершенно точными оценками ранее, внесло и руководство разведуправления Генерального штаба, которое 1 июня 1941 года оценивало общее распределение вооруженных сил Германии, следующим образом: против Англии (на всех фронтах) 122-126 дивизий (42,6%), против СССР – 120-122 дивизии (41,6%). На самом же деле против СССР было 62% от числа всех немецких дивизий, да еще 44-48 дивизий находились в резерве.
В результате был подтвержден ошибочный вывод, что Германия не начнет войны против СССР, не победив Англию, а также, что процесс сосредоточения немецких сил у границы СССР еще не завершен. Значит, есть еще некоторое время, не следует пока объявлять в войсках боевую тревогу, а всю страну переводить на военные рельсы.[3]
Такова была тяжелая цена ошибки и политического руководства, и военных, и разведчиков, которые рассчитывали максимально оттянуть начало войны, но не смогли это сделать, оказавшись в плену как неправильных расчетов, так и отсутствия трезвого анализа складывающейся обстановки и излишних надежд на мирное, дипломатическое решение агрессивных притязаний нацистской Германии. Такой подход к оценке вопроса войны и мира разделяли и И.В. Сталин, и Наркомат Обороны вместе с Генеральным штабом, и все Политбюро ЦК ВКП (б), и МИД СССР.
Дополнительный беспорядок и хаос в анализ туманной и противоречивой международной военно-политической обстановки вносили и события на мировой арене весной 1941 года. В марте 1941 года США заявили о патрулировании своих судов, перевозящих боеприпасы и снаряжение в Англию. Президент США Ф. Рузвельт 27 мая объявил о введении в США «неограниченного чрезвычайного положения». В конце марта министр иностранных дел Германии И. Риббентроп сказал послу Японии в Германии Х. Осиме: «Если Советский Союз в один прекрасный день займет позицию, которую Германия сочтет угрожающей, то фюрер разобьет Россию». Министр иностранных дел Японии И. Мацуока заверил Гитлера и Риббентропа, что пакт о нейтралитете, который он предполагает заключить с СССР, Япония отбросит в сторону, как только начнется советско-германская война. 9 мая 1941 года Риббентроп напомнил Токио обещание относительно вступления Японии в войну против СССР в случае Германо-Советского конфликта. История доказывает, в большинстве случаев, страна, воюющая на два фронта, как правило, терпит поражение. Вот Гитлер и надеялся зажать, с этой целью, СССР между будущими германским и японским фронтами. Япония к тому времени уже располагала в Корее и Северном Китае Квантунской армией численностью 750 000 солдат и офицеров, 1155 танков и 1800 самолетов. Посол Японии Осима встретился 3-4 июня с Гитлером и Риббентропом и обсуждал вопрос о роли Японии в предстоящих операциях гитлеровских войск против СССР. 16 июня Осима сообщил в Токио, что война между Германией и СССР начнется на следующей неделе. Нацисты считали, что их вермахт и один сможет справиться с Красной Армией и отводили Японии роль, сковывающей силы против СССР, которому не следует давать возможности пользоваться всеми имеющимися у него людскими и материальными ресурсами, накопленными на Дальнем Востоке. СССР пришлось летом 1941 года держать несколько десятков дивизий на дальневосточных рубежах для предотвращения японской агрессии. [4]
В апреле 1941 года стремясь привлечь СССР на сторону агрессивного «Тройственного пакта» (Германия, Италия, Япония) и на данном этапе получить перевес над блоком Англия ‑ США, император Японии Хирохито предложил СССР вступить в этот пакт четвертым членом. Но И.В. Сталин и В.М. Молотов (глава правительства СССР), отказались от такой «чести». Они отлично понимали сугубую временность предлагаемого пакта, и что в таком «союзе» СССР будет играть роль лошади, а Германия и Япония ‑ всадника, что Советский Союз намеревались использовать только в качестве поставщика многочисленного «пушечного мяса» и природных ресурсов. Не надо забывать, что в Москве хорошо знали о существовании плана «Барбаросса» и о переброске войск Германии к советской границе. Гитлер предоставил в мае Сталину сверхсекретные материалы: оперативные карты и детальные планы германского нападения на Турцию, как доказательство полного к нему доверия, и что дивизии Вермахта двинутся не на СССР, а только на Восток и даже, что 22 июня шесть дивизий сразу будут десантированы в Турцию. Гитлер тоже отказался от участия СССР в «Тройственном пакте», так как считал, что время существования СССР очень скоро закончится и нацистская Германия после военной победы над Красной Армией и оккупации территории СССР сначала станет полным господином во всей Европе, а затем и всего мира. Тем более, что в Берлине вынашивали планы в перспективе оккупации Италии (осуществили осенью 1943 года) и войны с Японией после разгрома США.
Но гитлеровцы опасались войны сразу на два фронта ‑ против СССР и союза Англии и США, помня горькие уроки проигрыша в Первой мировой войне. Накануне войны с СССР они стремились к соглашению с Англией на основе компромиссного мира. Вероятнее всего именно с этой целью заместитель Гитлера по нацистской партии Р. Гесс, располагая от Гитлера его заверением о том, что «он не намерен предъявлять Англии стеснительных условий», вылетел 10 мая 1941 года в Англию, и там, хотя и был арестован и помещен в комфортабельную тюрьму, все же имел беседы с официальными лицами Англии: лорд – канцлером Д. Саймоном и представителем английского МИДа А Киркпатриком. Возможно, тайно, с Гессом беседовал и сам премьер-министр Англии У. Черчиль. Гесс предлагал разграничить сферы влияния между Германией и Италией с одной стороны и Англией ‑ с другой. Английская сфера ограничивалась рамками ее колониальной империи, а державы «оси Берлин – Рим» должны были стать полновластными хозяевами в Европе.
Это был минимум для заключения мира, а максимум ‑ союз с Германией против Советского Союза. В этом случае территория СССР расчленялась на три зоны. Первая будет принадлежать Германии, и ее граница пройдет по реке Обь. Вторая зона, расположенная между реками Обь и Лена, достанется Англии. США достанется восточная часть СССР, включая Камчатку и Охотское море. Далее начиналась зона интересов Японии.
Гесс настолько был заинтересован в сговоре с Англией перед войной с СССР, или хотя бы в ее нейтралитете, что проинформировал английскую сторону о сроках начала военного конфликта Германии с СССР ‑ в конце июня 1941 года. К тайному эмиссару Гитлера на Британских островах отнеслись очень серьезно, и о планах расчленения СССР передавались за океан по засекреченным каналам правительственной связи и спецслужб Англии и США.[5] Сговор не состоялся из-за того, что и в Лондоне, и в Вашингтоне понимали, что после разгрома СССР, Гитлер обязательно кинется на них. Только по этой причине они в СССР видели своего союзника в борьбе с агрессией Германии и Японии. Другое дело, что они готовы были воевать до последнего советского и германского солдата, и вне своей территории.
Таким образом, мужественное и упорное сопротивление советских войск при поддержке населения против главной группировки Вермахта на территории Белоруссии летом 1941, сорвало планы нацистов зажать СССР в кольце двух фронтов, отрезвляюще действовало на военное командование Англии и США, которые прочили вермахту быструю и легкую победу.
Увидев, что Москва устояла, что Вермахт вынужденно ввязался в кровопролитные и длительные бои, правящие круги Японии решили отложить войну с СССР и напасть 7 декабря 1941 года на США, а 8-го на Англию. Переговоры с Гессом были заморожены, когда стало ясно, что план «Барбаросса» начал давать серьезные сбои и значительно вышел из запланированных временных рамок осуществления. Так что, развернувшиеся в Белоруссии события оказывали непосредственное влияние летом 1941 года не только на весь Советско-Германский фронт, но и на мировые военно-политические действия.
Но об этом, о самих событиях, информация в последующих главах. Надо сказать, что в Кремль поступали предупреждения от ведущих политиков Англии и США о подготовке Германией нападения на СССР, о сосредоточении на его границе ударной силы Вермахта ‑ танковых дивизий. Так, 19 апреля 1941 года У. Черчилль информировал И.В. Сталина, что немцы, после 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех из находящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий. Предупреждение на этот счет было сделано также заместителем государственного секретаря США С. Уэллесом в беседе с полномочным представителем СССР в Вашингтоне К.А. Уманским в начале 1941 года. Кроме того, за две недели до нападения Германии на СССР, было заявление Ф. Р. Рузвельта о том, что если только Сталин не спровоцирует войну, то США будут на стороне Советского Союза. Это являлось фактом огромного значения, и поэтому Сталин старался всячески избегать любых обвинений в провокации и во многом жертвовал боевой готовностью советских войск, принеся их в жертву политическим интересам.
Можно много спорить, но его действия на тот момент привели к тому, что летом 1941 года Англия и США были вынуждены примкнуть к СССР в войне против Германии. Начала складываться антигитлеровская коалиция, которая оказалась решающей силой в разгроме и нацистской Германии, и милитаристской Японии, и фашистской Италии. Миролюбивая, спокойная и последовательная политика СССР оказала решающее влияние на западных руководителей. Уже 20 июня американский посол, выполняя поручение президента США Ф. Рузвельта, передал премьер-министру Великобритании У. Черчиллю, что в случае германского нападения на СССР, он выступит в поддержку «любой декларации, которую может сделать, приветствуя СССР как союзника». Превратится ли такая декларация в реальную помощь и действия зависело уже не от дипломатов, а от стойкости и самоотверженности советских людей в смертельной борьбе с беспощадным и сильным врагом, в том числе во многом и в Белоруссии. Высказывая советскому руководству предупреждения в отношении намерений нацистского руководства, готовясь стать военными союзниками СССР, правительства Англии и США при этом руководствовались, прежде всего, своими интересами. Спасение Англии зависело от того, будут ли силы Германии отвлечены на войну против СССР. США же видели возможность резкого ослабления своего империалистического соперника ‑ Германии в результате ожесточенной борьбы советских войск с вермахтом и хотели получить свободу действий на Тихом океане для ликвидации Японии, как своего конкурента в борьбе за Китай и ряда других стран. К тому же английская и американская информация не содержала чего-либо нового.
Советскому высшему руководству и командованию были известны нацистские планы войны против СССР, включая и план «Барбаросса», может быть не в деталях, но, в основном, точно.[6]
Обстановка продолжала накаляться до состояния скорого взрыва. СССР пытался всеми способами упредить его, или хотя бы отодвинуть, на несколько недель или пару-тройку месяцев. А там подходит осень, затем зима -и кто, как и зачем будет воевать с Советским Союзом в это время года? Вероятность успеха для противника будет очень малой, а провала, поражения ‑ очень большой. Таким образом, выигрывался бы еще один год ‑ до лета 1942 года, и тогда можно было бы привести, если не в полный, то хотя бы в относительный порядок Красную Армию, нарастить вооружение, постепенно перевести народное хозяйство на военные рельсы. И.В. Сталин говорил в 1942 году У. Черчиллю в Москве: «… я думал, что мне удастся выиграть месяцев шесть или около этого». Но курс в Берлине был взят только на молниеносную и победоносную войну-блицкриг. 20 июня советское правительство передало в МИД Германии через своего посла текст ноты о неоднократном нарушении советской границы немецкими самолетами и предложило затронуть в беседе с Риббентропом или его заместителем вопросы советско-германских отношений во всей их совокупности. В ответ было молчание германской стороны на ноту, так и на сообщение ТАСС о подтверждении «мирных намерений Германии».[7]
В статье М. Маркаряна, опубликованной 20 апреля 2005 года в журнале «Самиздат»: «Каких событий, ждал Сталин 22 июня 1941 года? Что произошло 22 июня 1941 года?» говорится, что рассказал незадолго до своей смерти личный переводчик Сталина В.М. Бережков об одном из документов секретной переписки Сталина и Гитлера накануне начала войны. Он сказал: «21 июня получили телеграмму от Сталина. Он предлагает встречу с Гитлером. Он понимает: война принесет несчастье двум народам, и чтобы избежать этого, нужно немедленно начать переговоры, выслушать германские претензии. И.В. Сталин был готов на большие уступки: транзит немецких войск через нашу территорию в Афганистан, Иран, передачу части земель бывшей Польши. Деканозов (посол СССР в Берлине) поручил мне дозвониться до ставки Гитлера и передать все это. Но меня опередил телефонный звонок: нашего посла просили прибыть в резиденцию Риббентропа. Риббентроп: «Фюрер решился на упредительную войну против СССР, наши войска уже перешли границу». О том, что важная государственная телеграмма была получена 21-го числа, Бережков сообщал в советское время, но о содержании молчал, как «рыба». [8]
Насколько правдива данная публикация, сказать довольно трудно. Но то, что за последующие годы никем она не опровергнута, заставляет задуматься. Следует также учитывать, что данный документ вполне соответствует лихорадочным попыткам советской стороны любой ценой сохранить мир и втянуть Берлин в переговоры, и неплохо согласуется с официально признанными шагами Москвы во второй половине июня, перед началом войны. А об ожидании встречи лидеров СССР и Германии в июле писал сам Гитлер в письме от 14 мая 1941 года Сталину, которое сегодня уже известно, стараясь максимально запутать и обмануть советское руководство накануне скорого вторжения в СССР.
Гитлеровское руководство придавало первостепенное значение дезинформации политического и военного руководства СССР о планах войны, о ее сроках, о направлении и силе ударов Вермахта, о своих требованиях ‑ экономических и политических, о готовящейся агрессии Германии по отношению к другим странам, о запланированной высадке немецких войск на Британские острова летом 1941 года. Нацисты хорошо понимали, что полностью скрыть сосредоточение многомиллионной армии, тысяч танков и самолетов, десятков тысяч орудий и минометов у границы СССР невозможно, но можно придать им меньший размах, скрыть действительные цели, попытаться переключить внимание на другие, невоенные проблемы, создать иллюзию надежды на будущие мирные переговоры.
Главным условием победы в блицкриге гитлеровские стратеги считали внезапность нападения. Высшее командование Вермахта. (ОКВ) издало две директивы ‑ от 15 февраля и 12 мая 1941 года, о проведении мероприятий «по дезинформации советского военного командования». Первоначально, в период с 15 февраля по 14 марта, надлежало поддерживать версию, что руководство рейха еще не решило, где начать весеннее наступление ‑ против Греции, Англии или в Северной Африке. Во второй период, с середины апреля, когда замаскировать переброску десятков дивизий на восток будет уже невозможно, его (блицкриг) хотели представить отвлекающим маневром, с целью скрыть «последние приготовления для вторжения в Англию».
По линии МИД Германии, а также с помощью тех лиц, которые, так или иначе, контактируют с советским посольством, распространяли слухи о желании Германии получить на длительный срок в аренду Украину, или, оно будет настаивать на значительном участии в экономике Бакинских нефтепромыслов, или потребует право прохода немецких дивизий через Украину и Кавказ в Иран, Турцию и Ирак. Через двойного агента под псевдонимом «Лицеист» латышского эмигранта ‑ журналиста О. Берлинкса, работавшего, якобы, на резидента советской разведки в посольстве СССР А.З. Кобулова, а на самом деле на штандартенфюрера СС Р. Ликуса, шла дезинформация. «Лицеист» сообщал, а его информация передавалась в Москву, что взоры фюрера и его генералов якобы обращены в сторону Ближнего и Среднего Востока, других регионов, но только не России. [9]
Сыграла свою роль в дезинформации и ситуация вокруг Турции. Она колебалась между Германией и Англией. В Генеральном штабе Вермахта были разработаны в феврале 1941 года подробнейшие планы вторжения на Ближний Восток через Турцию и далее в Ирак с целью захвата источников нефти. Они создавались параллельно с планом «Барбаросса». Для «убеждения» Турции вермахт сосредоточил на границе с ней 15 дивизий. По плану, вторжение в Турцию должно было произойти весной-летом 1941 года и носило название «Анатолийская операция». Все это давало Москве основание предполагать, что войска Германии постепенно сосредотачиваются и увеличиваются не против СССР, а для захвата Ближнего Востока с нефтью. Это подтверждали и сведения Разведуправления Генерального штаба Красной Армии в спецсообщении от 15 мая: «Перегруппировка немецких войск за первую половину мая характеризуется, … дальнейшим усилением сил для действий против Англии на Ближнем Востоке, в Африке и на территории Норвегии». Хотя в этом сообщении и указывается на увеличение группировки Вермахта против СССР на протяжении всей, западной и юго-западной, границы, но основным районом сосредоточения немецких войск указывается на южные регионы ‑ южная часть генерал-губернаторства (так гитлеровцы называли Польшу), Словакии и северную часть Молдавии. Гитлер предоставил Сталину секретные материалы: детальные планы германского нападения на Турцию, как доказательство полного к нему доверия и что дивизии Вермахта двинутся не на СССР, а только на Восток и далее. Но в Москве не знали о прекращении в конце мая подготовки «Анатолийской операции», а 18 июня Германия без огласки подписала договор с Турцией о дружбе и ненападении, обезопасив себе южный фланг в войне с СССР. Из Турции в Германию стали поставлять значительное количество продовольствия, марганец для выплавки высококачественной стали. Турецкое правительство после агрессии Германии против СССР гарантировало немецким войскам беспрепятственный проход через свою территорию, а осенью 1941 года, ожидая скорого падения Москвы, готовилось напасть на советское Закавказье. В мае 1941 года, когда началась переброска большого количества немецких войск и боевой техники в Восточную Пруссию по плану «Барбаросса» Гитлер объяснял все это необходимостью маскировки и указывал Кремлю на сложности Ближневосточной операции. Вся надежда нацистов была только на внезапность и чрезвычайную силу первого удара Вермахта по Красной Армии. Еще 18 декабря в подписанном Гитлером плане войны с СССР требовалось максимально маскировать прибытие войск на советскую границу и развернуть строительство оборонительных укреплений с марта 1941 года, чтобы создать впечатление у СССР, что Германия опасается нападения со стороны Красной Армии и готовится к защите, абсолютно не думая о нападении самой.
Но Сталин и советское военно-политическое руководство мало доверяло разным слухам и осторожно относилось к часто противоречивым донесениям своей разведки. Убеждали только факты и реальные действия. И вполне реальным казалось смещение гитлеровской агрессии в южном направлении ‑ мимо СССР. Второго марта немецкие войска вступили в Болгарию, а 29 апреля оккупирована материковая часть Греции, в мае захвачен в ходе воздушно-десантной операции стратегически важный остров в Средиземном море Крит, греческие и турецкие острова в Эгейском море. В Северной Африке весной 1941 года высаживается немецкий экспедиционный корпус под командованием генерала Э. Роммеля и рвется через Ливию в Египет. В Генеральном штабе Германии по указанию фюрера разработан план завоевания Афганистана и вторжения с его территории в Индию ‑ «жемчужину Британской короны», с датой проведения операции ‑ сентябрь. Под руководство Германии перешли, присоединившись к «тройственному пакту», Румыния, Венгрия, Болгария, в которые были введены немецкие войска.
Разве эти факты, на первый взгляд, не убеждали в военной экспансии Германии в южном направлении? А то, что дивизии Вермахта сосредоточены на северо-западных и западных границах СССР в Финляндии, Восточной Пруссии, Польше ‑ это все мелочи, не стоит волноваться, скоро они оттуда уйдут то ли для высадки в Англию, то ли в Турции ‑ так заявляют в Берлине. Фюрер вкрадчиво намекает Москве, что, во-первых, надежда на мирное урегулирование советско‑германских противоречий сохраняется, а, во-вторых, наращивание рейхом военных сил у советских границ преследует цель оказать политическое давление на Кремль с целью получения больших экономических выгод.
Из всего этого у советского руководства должен сформироваться четкий вывод ‑ в 1941 году никакой войны нацистской Германии с СССР не будет, а вероятно в 1942, но не факт. В 1943 году ‑ возможно. Таким образом, год, а то и два, сохранится мирное небо ‑ спите спокойно, не тревожьтесь. Главное в такой дезинформации, что она во многом соответствовала нашим надеждам и планам руководства на укрепление обороноспособности страны. А всего было проведено немцами осенью 1940 ‑ весной 1941 года до 70 различных дезинформационных операций.[10]
В мае 1941 года, желая максимально обмануть советское руководство и запутать советское руководство, к проведению работы по дезинформации подключился сам Гитлер. С этой целью он 14 мая обращается с письмом о перспективах развития событий в Европе и сосредоточении немецких войск у советских границ к Сталину. Насколько сегодня об этом известно, письмо было вторым посланием фюрера германского рейха вождю советского народа и руководителю единственной и правящей политической партии в СССР. Первое было в январе 1941 года, уже после утверждения плана «Барбаросса», в котором содержались призывы к укреплению связей воюющей Германии и нейтрального СССР в области торговли, экономики и учета взаимных интересов, а также предложение о личной встрече ‑ где-то летом 1941 года, для решения имеющихся проблем в отношениях двух стран. Подчеркнуто выражалось миролюбивое отношение нацистского руководства к Советскому Союзу и готовность развивать равноправные связи. Первое послание было передано через послов. Что и как, отвечал Сталин Гитлеру на это послание, неизвестно и по сей день. Да и о тексте послания Гитлера 14 мая 1941 года стало известно только в июне 2008 года, через 67 лет. Вот он: «Я пишу это письмо в момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно достичь долговременного мира в Европе ‑ не только для нас, но и для будущих поколений без окончательного крушения Англии и разрушения ее как государства. Как вы хорошо знаете, я уже давно принял решение осуществить ряд военных мер с целью достичь этой цели. Чем ближе час решающей битвы, тем значительнее число стоящих передо мной проблем. Для массы германского народа ни одна война не является популярной, а особенно война против Англии, потому что германский народ считает англичан братским народом, а войну между ними ‑ трагическим событием. Не скрою от Вас, что я думал подобным же образом и несколько раз предлагал Англии условия мира. Однако оскорбительные ответы на мои предложения и расширяющаяся экспансия Англичан в области военных операций, с явным желанием втянуть весь мир в войну, убедили меня в том, что нет пути выхода из этой ситуации, кроме вторжения на Британские острова. Английская разведка самым хитрым образом начала использовать концепцию «братоубийственной войны» для своих целей, используя ее в своей пропаганде – и не без успеха. Оппозиция моему решению стала расти во многих элементах германского общества, включая представителей высокопоставленных кругов. Вы, наверняка, знаете, что один из моих заместителей, герр Гесс, в припадке безумия вылетел в Лондон, чтобы пробудить в англичанах чувство единства. По моей информации, подобные настроения разделяют несколько генералов моей армии, особенно те, у которых в Англии имеются родственники.
Эти обстоятельства требуют особых мер. Чтобы организовать войска вдали от английских глаз и в связи с недавними операциями на Балканах, значительное число моих войск, около 80 дивизий, расположены у границ Советского Союза. Возможно, это порождает слухи о возможности военного конфликта между нами. Хочу заверить Вас -и даю слово чести, что это неправда… В этой ситуации невозможно исключить случайные эпизоды военных столкновений. Ввиду значительной концентрации войск, эти эпизоды могут достичь значительных размеров, делая трудным определение, кто начал первым. Я хочу быть с Вами абсолютно честным. Я боюсь, что некоторые из моих генералов могут сознательно начать конфликт, чтобы спасти Англию от ее грядущей судьбы и разрушить мои планы. Речь идет о времени более месяца. Начиная, примерно, с 15 ‑ 20 июня, я планирую начать массовый перевод войск от Ваших границ на Запад. В соответствии с этим, я убедительно прошу Вас, насколько возможно, не поддаваться провокациям, которые могут стать делом рук тех из моих генералов, которые забыли о своем долге. И, само собой, не придавать им особого значения. Стало почти невозможно избежать провокации моих генералов. Я прошу о сдержанности, не отвечать на провокации и связываться со мной немедленно по известным Вам каналам. Только таким образом мы можем достичь общих целей, которые, как я полагаю, согласованы. Ожидаю встречи в июле. Искренне Ваш, Адольф Гитлер». [11]
До начала войны оставалось 38 дней. С полным напряжением работали железные дороги, перебрасывая войска, танки и артиллерию, боеприпасы на пограничные станции, на аэродромы приземлялись тысячи самолетов, дивизии выдвигались в районы сосредоточения перед атакой. Зачем нужно было такое письмо Гитлера Сталину в это время? Все определялось директивой № 121 (план «Барбаросса»). В ней четко говорилось: «Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были раскрыты». В связи с этим ставка делалась, прежде всего, на сохранение замысла войны, введение Советского Союза в заблуждение, быстроту развертывания больших масс немецких войск у границ СССР, нанесения внезапного удара по не подготовившимся советским войскам и захвата с первых часов войны стратегической инициативы. Тем более, что в Берлине хорошо знали силу и разветвленность советской разведки и, как докладывал генеральный штаб Вермахта Гитлеру, после 15 июня очень сложно будет сохранить в тайне военные приготовления против СССР. Именно поэтому в письме Гитлера указываются даты – 18 по 20 июня, как начало планируемой переброски войск на Запад для решающего удара по Англии.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
ВОЕННАЯ ГРОЗА НАДВИГАЕТСЯ
Как же готовилась гитлеровская Германия к войне СССР? На Западе, особенно в ФРГ, в исторических исследованиях и в военно‑научных работах, а также в мемуарах нацистских генералов, содержатся сетования на то, что Германия плохо приготовилась к войне, не развернула в 1941 году на полную мощь свою военную промышленность, недостаточно произвела танков, самолетов, орудий и минометов, мало было сформировано дивизий Вермахта, Гитлер и его генеральный штаб недооценили силу советских войск, находящихся в приграничных округах, что и привело к срыву плана «Барбаросса»».
Так ли это? Известные цифры и факты говорят иное. В первую очередь экономика, которая являлась базой для ведения как успешной наступательной, так и оборонительной войны. Сравним основные экономические показатели Германии и СССР в 1940 году (в миллионах тонн) ‑ производство стали ‑ 31,8 и 18, чугуна – 25 и 15, угля 439 и 165, проката 26 и 13. Кроме этого, в Германии станочный парк, в промышленности, составлял 1 миллион 694 тысячи единиц оборудования против 710 тысяч металлорежущих станков СССР. Электроэнергии в Германии было произведено 77 миллиардов киловатт часов против 46 в СССР. Германия к 1941 по главным промышленным показателям вышла на второе место в мире после США. Так что, Третий рейх к лету 1941 имел мощный фундамент экономики, превосходивший экономику СССР в 2-2,5 раза и для ликвидации этого разрыва СССР требовалось еще не менее двух мирных пятилеток. [12]
Другое дело, что эффективность планово-командной социалистической системы была выше государственно – капиталистической системы нацистской Германии, опиравшейся на крупные частные монополии, мелкий и средний капитал, а также на помещичьи – юнкерские хозяйства в аграрном секторе. Готовясь к новой мировой войне с целью завоевания мирового господства, в первую очередь против СССР, гитлеровский режим с 1933 по 1939 годы развязал кровавый террор ‑ бросил в тюрьмы и концлагеря до миллиона немцев, убил десятки тысяч антифашистов, сумел отравить человеконенавистнической идеологией расового превосходства души большинства из 70 миллионов немцев. Он укрепил свои позиции в глазах мелкой буржуазии, рабочих, крестьян, загипнотизированных успешными завоеваниями вермахтом небольших стран Европы без больших жертв, их ограбления и поднятия за этот счет жизненного уровня населения Германии при бешеном росте прибылей монополий от огромных заказов. Всячески культивировалась ненависть к евреям и славянам, презрение к другим народам, единства «арийской расы господ» и непобедимости Вермахта.
Вооруженные силы Германии к лету 1941 года были наиболее сильными, обученными и хорошо вооруженными в мире, а их офицерский состав являлся высококвалифицированным и опытным. Десятки миллионов немцев осознанно поддерживали агрессивные действия нацистов, которые путем безудержного террора, игры на самых низменных чувствах и предрассудках, обманом и обещаниями «райской жизни для немцев» за счет других народов, сумели привлечь их на свою сторону и убедить в правильности и обоснованности политики агрессии и захвата «жизненного пространства». Находившиеся на свободе антифашисты ушли в глубокое подполье, были слабо организованы, не было единства, и они не пользовались поддержкой у большинства населения. Гитлеровскому режиму удалось создать сплоченную вокруг него Германию.
Она и ее союзники, и оккупированные страны Европы, превосходили СССР и по численности населения ‑ 283 миллиона человек против 194 миллионов (в границах по состоянию на 22 июня 1941 года), что не могло не отразиться и на соотношении количества трудовых ресурсов и на мобилизационных возможностях. Так как миллионы немцев были призваны в ряды все разрастающегося Вермахта, военно-воздушные силы, в другие военные формирования, а также направлены в военную промышленность, то вставал вопрос, кто будет работать на стройках, в угольных шахтах, в сельском хозяйстве и так далее. Ответ был в чисто нацистском духе ‑ в принудительном порядке ввезли в Германию в 1940–1941 годах, до 22 июня, свыше трех миллионов иностранных рабочих, еще в качестве подневольной рабочей силы были использованы несколько миллионов военнопленных, в основном, из Польши и Франции. Этим был значительно расширен военно-промышленный комплекс: если в 1939 году в нем было занято около 2,5 миллиона человек, то в мае 1941 года их численность возросла до 5,5 миллиона человек.[13] Значительно увеличились, как общая численность Вермахта, так и число вновь формируемых дивизий. Уже летом 1940 их было 40. На восток рейха было передислоцировано три армии в количестве до полумиллиона солдат и офицеров. Удвоилось число дивизий сухопутной армии, вновь сформировано 14 танковых и 10 моторизованных дивизий ‑ основной ударной силы Вермахта. Произошло резкое увеличение вооружения армии, и ее автотранспортных возможностей с использованием оружия, боеприпасов и снаряжения 180 разбитых немцами противников Германии. Трофейными машинами были оснащены 94 дивизии Вермахта, что сильно увеличило подвижность и маневренность гитлеровских войск. К лету 1941 года во всем мире не было армии более укомплектованной боевой техникой и транспортом. С сентября 1939 года по июнь 1941 численность Вермахта возросла более чем втрое ‑ до 8,5 миллиона человек. Для сравнения: к лету 1941 года Красная Армия насчитывала в целом более 5,2 миллионов человек.
Опираясь на мощную экономику, и имеющиеся трудовые ресурсы, Германия в 1940 году выпустила 10 тысяч 250 самолетов, 2 тысячи 200 танков и бронемашин, 5 тысяч 900 орудий калибром 75 и более миллиметров, 1 миллион 351,7 тысяч винтовок, до 171 тысячи пулеметов. Проходил процесс насыщения армии автоматическим оружием. Если в 1940 году германские оружейные заводы выпускали всего 175 тысяч автоматов, то в 1941 году уже 325 тысяч. Наращивался выпуск танков и штурмовых орудий (самоходных артиллерийских установок). Так, в первой половине 1941 года было выпущено еще 1 тысяча 366 танков и 255 штурмовых орудий. Кроме того, нацисты поставили на службу своей военной машине и трофейную бронетехнику. Они захватили в Чехословакии 1 тысячу 200 танков, еще около 3 тысяч им досталось после разгрома английских и французских войск в 1940 году. Это была, в целом, колоссальная военная мощь.
Гитлера и его генералов можно обвинить в чем угодно, но не в том, что к войне против СССР они плохо подготовились. [14]
Как же реагировал Советский Союз, его руководство на явно агрессивный курс нацистской Германии, резкое усиление сил Вермахта и возможностей ее экономики? Нельзя забывать, что Белоруссия была неотъемлемой частью Советского Союза и проводила внутреннюю политику в полном соответствии с указаниями Москвы. Республика поставляла в общесоюзный фонд значительное количество продуктов сельского хозяйства, имеющегося сырья для легкой и пищевой промышленности, обладала важными транспортными возможностями ‑ железнодорожными и шоссейными дорогами, развивала сеть аэродромов для военно-воздушных сил Красной Армии, большое количество белорусов служило в советских войсках. Широко развивалась не только текстильная и обувная промышленность, но и завершилось строительство танкоремонтного завода в Минске и Могилевского авиационного. Благодаря успешной индустриализации и создания сильной экономической базы, значительно выросло производство боевой техники. Только самолетов было выпущено 15 тысяч 735, в том числе 5 тысяч 629 современных марок, ничем не уступающих машинам ВВС Германии. Нарастал выпуск боевых машин и в танковой промышленности. Если в 1940 году было выпущено 358 тяжелых и средних танков (КВ и Т-34), то в первом полугодии 1941 года их было выпущено 1 тысяча 503. Но наряду с новыми танками продолжался выпуск и старых моделей танков (БТ и Т-26). Танк Т-34 в 1941–1942 годах был лучшим средним танком в мире, а тяжелый танк КВ являлся самым мощным. У Германии таких танков не было вообще. В западных приграничных округах СССР находилось более 30 тысяч орудий и минометов, а вермахт для боев на Востоке имел 31 тысячу. Численность Красной Армии к началу войны достигла 5,5 миллионов человек.
Так что ни количественного, ни качественного превосходства боевой техники Вермахт перед Красной Армией не имел. Почему СССР, имея меньшую экономическую базу, чем Германия, смог иметь примерное равенство в боевой технике? Это объясняется тремя причинами. Во-первых, более эффективное использование имеющихся ресурсов; во-вторых, из сельского хозяйства, в результате коллективизации и широкого внедрения сельхозмашин, были привлечены большие трудовые ресурсы, в-третьих, широкое использование принудительного труда (более 2 миллионов, заключенных в ГУЛАГе). В результате на начало Великой Отечественной войны возможности танковых и авиационных заводов СССР в 1,5 раза превосходили возможности германской промышленности. Была укреплена трудовая дисциплина. Указом Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года все трудящиеся переходили на восьмичасовой рабочий день и семи дневную рабочую неделю. Запрещался самовольный переход рабочих, служащих, инженерно-технических работников на другие предприятия и вводилась уголовная ответственность за опоздания или прогулы по месту работы, помогло высоким темпам развития оборонной промышленности. Росли и расходы на выполнение программ обеспечения обороны страны. В 1940 году на это было направлено почти треть государственного бюджета страны, а в 1941 году 43,4%, что позволяло ускорить развитие оборонной промышленности.
Так что руководство СССР отнюдь «не сидело, сложа руки», а принимало действенные контрмеры, стараясь обуздать все усиливающегося нацистского агрессора. Но не все смогли сделать, что было необходимо. В результате мобилизационные потребности Красной Армии удовлетворялись полностью только по винтовкам и пулеметам, и на 90% в тяжелой артиллерии. Недостаточным было обеспечение армии минометами, автоматическим стрелковым вооружением, мелкокалиберными зенитными пушками. Нужно иметь в виду, что на новые типы современной, на то время, боевой техники и вооружения приходилось всего 15-18% от общей численности. Основная же часть боевой техники все еще оставалась старой.
На что еще рассчитывало нацистское руководство, готовясь к войне с Советским Союзом и надеясь на быстрый разгром Красной Армии? В первую очередь на нашу слабую организованность и недостатки в подготовке командных кадров в армии, на незавершенность перевооружения советских войск на современные виды оружия.
Так видный офицер Генерального штаба Вермахта полковник А. Кинцель докладывал своему командованию еще за полгода до начала войны: «Сила Красной Армии ‑ в большом количестве вооружения, непритязательности, закалке и храбрости солдат. Слабость заключается в неповоротливости командиров всех степеней, привязанности к схеме и повсеместно ощутимом недостатке организованности». При обсуждении плана «Барбаросса» в Ставке Гитлера 3-го февраля 1941 года начальник штаба сухопутных сил Ф. Гальдер докладывал: «Количественное превосходство у русских, качественное ‑ у нас» и пояснил: «У противника много танков, но плохих, наскоро собранная техника. Артиллерией русские вооружены нормально. Командование артиллерией неудовлетворительное» Начальник разведывательного управления Генштаба Вермахта К. Типпельскирх отмечал: «Отборные командные кадры русских пали жертвой широкой политической чистки в 1937 году. Русско-финская война вскрыла недостаточную тактическую подготовку среднего и младшего командного звена…. Казалось невероятным… чтобы эти недостатки… могли быть ликвидированы в короткий срок».[15]
Свою тяжелую и крайне отрицательную роль сыграли массовые политические репрессии 1937 ‑ 1938 годов, которые сильно затронули командный состав Красной Армии. Сами репрессии были вызваны крайне ожесточенной борьбой в правящих кругах СССР, в руководстве вооруженных сил, в партийном, комсомольском, профсоюзном, идеологическом аппарате властей на союзном, республиканском, областном, городском и районном уровнях. Борьба шла как за различные модели построения социализма в СССР, так и за личное положение и лидерство в сложившемся к середине тридцатых годов бюрократическом командно-принудительном строе, отходе от принципов хотя бы частичной демократии и от коллективного руководства, беспощадном подавлении не только инакомыслящих, но даже сомневающихся. И все это происходило в условиях обостряющейся международной обстановки, резкого возрастания угрозы большой войны.
Во внутриполитической острой борьбе потерпела поражение группа М.Н. Тухачевского и других видных военных, а победила группа И.В. Сталина, и поддерживающая ее группировка части военных и партийных деятелей. Эта группа установила в стране свою единоличную власть, подавляя путем репрессий всех несогласных, колеблющихся, в будущем, возможно, потенциально опасных власть предержащим. Значительную роль в расширении репрессий играли карьеризм и зависть к более успешным, а также личные счеты. Только с мая 1937 года по сентябрь 1938 года было репрессировано или уволено 39 тысяч 761 командир и политработник Вооруженных Сил. Репрессии смели всех командующих военными округами, на 90% был обновлен состав их заместителей, помощников, начальников штабов, начальников родов войск и служб, на 80% ‑ руководящий состав корпусных управлений и дивизий, на 91% командиры полков, их заместители и начальники штабов. Были репрессированы также многие ученые, конструкторы военной техники, преподаватели военных академий и училищ, а их труды изъяты из обращения как «вражеские».
В результате в 1941 году недостаток командных кадров, только в сухопутных войсках, составляла 66 тысяч 900 человек. Но это было связано не только с репрессиями, но и со значительным увеличением численности Красной Армии, которая выросла за два предвоенных года почти в 3,5 раза. В итоге ‑ падение качественного уровня военной подготовки командиров войск. Накануне войны только 7% командиров Вооруженных Сил СССР имели высшее военное образование, а 37% не прошли полного курса обучения даже в средних военно-учебных заведениях. Те же процессы происходили в звене полк – дивизия. В 1940 году 200 командиров полков имели за плечами только курсы младших лейтенантов. Дважды Герой Советского Союза Маршал А.М. Василевский, начальник Генерального Штаба Красной Армии с июня 1942 года отмечал: «Без 37 года, возможно, и не было б вообще войны в 1941 году». Несомненно, то, что решение Гитлера начать войну с СССР в 1941 году, в существенной степени базировалось и на оценке масштабности уничтожения военных кадров Красной Армии. Мало того, что армия, начиная с полков, была обезглавлена, она была еще и, во многом, морально разложена.
Принуждение, насилие, репрессии, порождавшие атмосферу страха, сковывали инициативу и командиров, и красноармейцев, резко снижали творческий потенциал Красной Армии. Все это трагически сказалось на начальном этапе Великой Отечественной войны.
Следовательно, вывод командования Вермахта, что способности и опыт вновь назначенного, часто не имеющего должной подготовки, высшего командного состава Красной Армии, не соответствует «требованиям командования крупными войсковыми соединениями» в немалой степени соответствовало действительности. Капитаны, нередко, становились командирами дивизий, потому, что все, кто были выше, или расстреляны, или арестованы и брошены в лагеря ГУЛАГа, или «вычищены» из армии, как недостаточно благонадежные. Люди, не имевшие опыта командования дивизиями, становились командующими армиями и военными округами. Во многом причины неудач и поражений наших войск в первый период войны и в этом. В документах генштаба Вермахта привлекается внимание к тому, что и высший и низший командный состав советских войск отличается недостатком опыта и знаний, самостоятельности и инициативы. В тоже время отмечается хороший уровень воспитания и обучения сержантского состава. Высоко оценивается простой солдат, а их было огромное большинство. Он характеризуется твердым и непритязательным, храбрым и волевым. В отношении танковых войск гитлеровцы вынужденно отмечали, что танковые соединения в численном отношении сильны, частично вооружены современными машинами и боеспособны, но вряд ли смогут в достаточной степени быстро обеспечить восполнение людских и материальных потерь. Об артиллерии указывали на то, что она лишь частично оснащена современными видами вооружения и на многих участках фронта в начале войны создалось впечатление о ее полном отсутствии.[16]
Большое внимание гитлеровское руководство уделяло получению достоверных сведений о силах Красной Армии с помощью разведки, в основном с помощью агентуры. Ее вербовали на основе материальных благ за передаваемые сведения. Как отмечал гитлеровский генерал-лейтенант Г. Пикенброк в качестве этих материальных благ выступали водка, продукты питания, отдельные вещи, одежда и, конечно, деньги.
Часть агентуры забрасывалась в тыл Красной Армии путем нелегального перехода сухопутной границы, часть при помощи авиации с парашютным десантированием. Завербовывали и жителей пограничных сел. Число агентов, возвратившихся обратно составляло почти 50% от заброшенных, а остальных часто задерживали и разоблачали пограничники, военные контрразведчики, территориальные органы государственной безопасности, сотрудники НКВД на транспорте, при выявлении фальшивых документов во время проверки их у граждан. Несмотря на значительные потери, завербованная агентура и обратно вернувшиеся агенты, часто добывали ценные для командования Вермахта сведения ‑ агентов было не десятки, а сотни. Немецкое командование даже из разрозненных и частичных данных, обобщая и анализируя их, получало ценные и нужные ему сведения, хотя и эта разведывательная информация агентов нередко носила ориентировочный характер.
Так, из находившихся в западных приграничных округах, из 170 стрелковых дивизий немецкая разведка выявила 146, из 35 кавалерийских дивизий и 2-х бригад агенты насчитали 26,5, из 60 танковых и механизированных дивизий выявили 35. В Генеральном штабе Вермахта, в военной разведке (Абвер), конечно, кое-что знали, но далеко не полностью о силах Красной Армии. Хотя, нужно признать, что в ЗапОВО (территория Беларуси) гитлеровские шпионы сумели выявить расположение и численность многих воинских частей, получить сведения о предприятиях оборонной промышленности, о состоянии и пропускной способности коммуникаций.[17]
С вражеской агентурой вели беспощадную борьбу. В мае 1941 года, в связи с обострением обстановки, личный состав органов госбезопасности БССР уже работал в условиях особого положения. В этот период, чекистами, в итоге активных и сложных розыскных мероприятий в Брестской, Белостокской и других областях были выявлены и разоблачены многие, хорошо подготовленные агенты немецких спецслужб. У некоторых шпионов и диверсантов, кроме оружия и взрывчатки был изъят сильнодействующий препарат сибирской язвы, который предполагалось использовать для возбуждения болезни у лошадей, коров, овец и других животных. За два дня до войны, то есть 20 июня, в ЦК Компартии Белоруссии, наркомом государственной безопасности, М.Ф. Цанава, сообщалось, что на территорию СССР немцами осуществлена заброска диверсантов. В результате работы органов госбезопасности, только на Минском направлении в период с 18 по 22 июня 1941 года были захвачены или уничтожены несколько десятков разведывательно-диверсионных групп Абвера (военной разведки Вермахта).
О задачах агентов нацистских спецслужб, в связи с подготовкой агрессии против СССР, можно судить по полученному заданию, завербованным гестапо, и направленному на территорию Западной Белоруссии В.И. Дашкевичем, по национальности поляком, бывшим капралом польской армии и стражником Гродненской тюрьмы (до сентября 1939), проживавшему в городе Лида. Требовалось от него, совместно с другим агентом по имени Яник:
- Установить, на каких улицах, и под какими номерами домов в городе Гродно помещаются коммунистические и советские организации;
- Собрать сведения о настроениях местного населения и его отношение к советской власти;
3.Собрать подробные сведения о количестве частей Красной Армии расположенных в городе Гродно и, в особенности танковых частей, выяснить их нумерацию и типы танков, состоящих на вооружении.
Перед заброской они получили одну тысячу рублей и три килограмма сахарина. Разведданные Дашкевич должен был собрать путем личного наблюдения и осторожных бесед с местным населением. Он был задержан чекистами 9 мая 1941 года на станции Мосты Белостокской железной дороги.[18] Но, к сожалению, таких агентов было немало и не все они вовремя были обезврежены..
Руководство немецкой разведки получало разведывательную информацию о расположении советских частей, аэродромов и количестве самолетов на них, системе противовоздушной обороны, о местах ангаров с бронетанковой техникой, о дислокации различных складов.
Накануне войны на западных границах СССР были развернуты 10 авиаразведывательных эскадрилий, снабженных очень точной и чувствительной фототехникой, где были собраны лучшие летчики и наблюдатели. Авиаразведка давала точные и достаточно полные данные о советских войсках и боевой технике.
Однако сведения требовались как можно чаще ‑ не реже одного раза в сутки, чтобы, сравнивая снимки за последующие дни, можно было увидеть происходящие изменения в расположении частей Красной Армии. И это проводилось в жизнь с типичной немецкой педантичностью. За период с 19 апреля по 19 июня 1941 года советской ПВО были зафиксированы 180 перелетов границы СССР немецкими самолетами. В среднем, три полета каждый день. Проводили детальную аэрофотосъемку всей территории от западной границы СССР на глубину 100‑150 километров. Нашим истребителям и зенитной артиллерии было запрещено открывать по немецким самолетам огонь, так как не хотели давать гитлеровцам повод для начала войны, а поэтому немецкие самолеты только вытеснялись за границу СССР, или принудительно сажали на наши аэродромы и потом возвращали немецкой стороне, и самолеты, и оборудование, правда без фотопленки, обратно. От наших ВВС, ПВО, пограничников требовалось только детально фиксировать места и время полетов, далее МИД СССР направлял в МИД Германии Ноты протеста и предлагал немцам прекратить провокационные полеты. Ноты протеста были направлены в Берлин и в апреле, и в мае, и в июне. Последняя такая Нота была передана в МИД Германии вечером 21 июня, когда танки Вермахта прогревали моторы и выдвигались к границе. Миролюбие вещь хорошая и полезная, но излишнее миролюбие вредно. В Кремле до последнего пытались если не предотвратить, то отсрочить нацистскую агрессию против Советского Союза. Фашистам предлог не всегда был нужен, особенно если нападение заранее спланировано. Особенно поучительна история с «Юнкерсом-52», который привез личное послание Гитлера Сталину от 14 мая 1941 года. О его перелете германо-советской границы 15 мая и беспрепятственном полете до Москвы никто из политического и военного руководства в тот день не был проинформирован. Нарком обороны СССР Тимошенко и начальник Генерального штаба Красной Армии Жуков, видимо, побоялись доложить об этом Сталину. Только 10 июня 1941 года, всего за 12 дней до войны, по этому факту был отдан секретный Приказ № 0035, который получили по списку командующие военными округами и еще небольшой круг военных чинов. Но Сталина в списке не было, хотя письмо он получил. Легко представить его реакцию на доклад о том, что фашистский самолет без всякого приглашения и сопровождения наших самолетов легко пересек западную границу СССР и беспрепятственно приземлился в Москве.
Что конкретно указывалось в этом Приказе? В нем говорилось: «15 мая 1941 года германский внерейсовый самолет Ю‑52 совершенно беспрепятственно был пропущен через государственную границу и совершил перелет по советской территории через Белосток, Минск, Смоленск в Москву. Никаких мер к прекращению его полета со стороны органов ПВО принято не было».
До начала войны оставалось всего 37 дней. В воздухе витает предчувствие неумолимо надвигающейся грозы, особенно это ощущали военные. Как же в этой обстановке несут службу силы противовоздушной обороны ЗапОВО? Читаем приказ дальше: «Посты ВНОС 4-й отдельной бригады ПВО Западного особого военного округа, вследствие плохой организации службы ВНОС, обнаружили, нарушивший границу, самолет, лишь тогда, когда он углубился на советскую территорию на 29 километров, но, не зная силуэтов германских самолетов (!) приняли его за рейсовый самолет ДС-3 и ничего о появлении вне рейсового Ю-52 не оповестили». Можно представить уровень боевой выучки в частях ПВО округа! Как явствует из Приказа то, что границу пересек Ю-52 знали в Белостоке, но… Белостокский аэропорт… также не поставил в известность командиров 4-й бригады ПВО и 9-й смешанной авиадивизии, так как связь с ними была прервана военнослужащими. Командование 9-й смешанной авиадивизии никаких мер к надлежащему восстановлению связи не приняло, а вместо этого сутяжничало с Белостокским аэропортом о том, кому надлежит восстановить нарушенную связь. Никем не остановленный Ю-52 (по классу самолет-разведчик), спокойно долетел до Смоленска и приблизился к Москве. Вот здесь наверняка должны были поднять эскадрильи перехватчиков?! Но ничего не произошло. Начальник штаба ВВС генерал-майор Володин и начальник первого отдела штаба ВВС генерал-майор Грендаль, зная о самовольном пересечении границы германским самолетом, разрешают ему сесть… И где?! ‑ на Московском аэродроме!
В принципе, если погода была хорошей, немецкие летчики могли разглядеть Кремль. Авторы Приказа, констатируя потерю бдительности, неблагополучное состояние системы ПВО ЗапОВО, никого не сняли с должности, ограничившись выговорами и постановкой на вид. Но этот полет сквозь главные силы наших ПВО, оказался страшным предвестником надвигавшейся грозы фашистского вторжения. И 22 июня сотни наших боевых самолетов были сожжены на десятках аэродромов и посадочных площадках, не успев даже подняться в воздух. Правда за такую «боеготовность» поплатились и Володин, и Грендаль. Маршал Жуков, видимо догадывался, что их расстрел был попыткой «спрятать концы в воду» и поэтому молчал об этой истории много лет.[19]
Какие данные, и в какое время, добывали подразделения советской разведки, находившиеся в Белоруссии в первой половине 1941 года? Сразу надо отметить, что конкретно от разведчиков наркомата госбезопасности БССР и от разведотдела штаба ЗапОВО сведения передавали и руководству ЦК Компартии Белоруссии, и в полном объеме пересылались в Москву. Так 5 апреля 1941 года руководитель компартии Белоруссии П.К.Пономаренко получил спецсообщение от наркома госбезопасности республики Л.Ф. Цанавы с пометкой «Совершенно секретно. Только лично». В нем указывалось, что с 4-го по 25 марта на железнодорожную станцию Волочин прибыло с Варшавского направления 62 военных эшелона, из них: 18 ‑ с пехотой, 10 ‑ с кавалерией, 8 ‑ с артиллерией, 26 ‑ с боеприпасами и продовольствием. В лесу близ местечка Хотылово располагается танковая часть, имеющая до 100 танков. Танки для маскировки зимой были выкрашены в белый цвет, а теперь покрашены в зеленый. Моторизованные части, и противотанковая артиллерия находились в лесах около города Бело–Подляска. Гитлеровцы всячески старались скрыть сосредоточение своих больших сил вблизи советско-германской границы. Советские разведчики смогли установить общую группировку германских войск против БССР, которая, ориентировочно, состояла к апрелю 1941 года из 26–27 пехотных дивизий, свыше одной мотодивизии, одной кавалерийской дивизии, трех кавалерийских бригад, и более двух авиаполков. Для возможного массового приема боевой авиации были построены новые аэродромы в районе города Демблин; около города Суволки, в районе деревень Соколовка, Подледь. Активно функционировал и военный аэродром в городе Демблин. Они строились и расширялись с прицелом на быстрый прием передислоцируемой с запада авиации.
Еще 20 июня под грифом «Совершенно секретно» в ЦК получили очень важное и ценное сообщение наркомата госбезопасности БССР о переброске германских войск из более отдаленных районов к советской границе. Разведданные получили, как от закордонной агентуры, так и путем разведывательного опроса нарушителей государственной границы и сведений от УПВ (Управление пограничных войск). Отмечались продолжающиеся интенсивные военно-мобилизационные приготовления немцев на сопредельной территории.[20]
Разведывательные органы НКГБ и Красной Армии правильно оценивали и фиксировали сведения о резком усилении, к началу июня, сосредоточении сил Вермахта. Так еще 5 июня 1941 года по информации штаба ЗапОВО против нашей 4-й армии, куда входили четыре пехотных, две танковые дивизии и одна смешанная авиадивизия, немцы сосредоточили на Брестском направлении, 15 пехотных и две моторизованные дивизии.
Крайне тревожное сообщение поступило 21 июня от командующего 3-й армией генерала В.И. Кузнецова. Он сообщал из Гродно, что вдоль границы вечером сняты проволочные заграждения, а в лесу слышен гул многочисленных моторов. Сообщения с этими сведениями за подписью начштаба округа В.Е. Климовских было направлено в Генштаб. Вечером 21 июня начальник разведотдела ЗапОВО С.В. Блохин лично проинформировал командующего округом Д.Т. Павлова, что по сообщениям разведки на границе очень тревожно и немецкие войска приведены в полную боевую готовность. Как отреагировал Павлов? Он ответил, что «этого не может быть и это чепуха, какая – то». Весь труд разведчиков был напрасен. Ибо принимать какие либо меры предосторожности было не велено.[21].
Почему? Ответ на этот вопрос будет дан позже, как и о причинах крайнего благодушия генерала Павлова.
Надо отметить, что еще в начале 1939 года был создан специальный 7-й отдел приграничной разведки в Разведуправлении Красной Армии. Весной 1941 года было созвано совещание начальников Разведотделов приграничных военных округов. На этом совещании была вскрыта вопиющая беспечность в подготовке к действиям в условиях войны. Агентурная разведка Разведотделов западных военных округов была недостаточно укомплектована кадрами. Большинство агентов являлись местными жителями, которые не имели доступа к важной информации. Да и агентурную разведку приграничных округов ориентировали на выявление подготовки Германии к нападению на СССР только с 24 мая 1941 года. Что же касается войсковой и радиоразведки Западных военных округов, то они также не были укомплектованы опытными кадрами, и недостаточно оснащены техническими средствами. То же можно сказать и о воздушной разведке. Вплоть до мая 1941 года она велась силами разведывательных авиаполков, имевших только 157 самолетов на всю советско-германскую границу от Балтийского, до Черного моря – явная переоценка возможности и оперативности получения сведений. Но, несмотря на все недостатки и трудности военная разведка давала важную информацию. Из спецсообщения Разведотдела ЗапОВО от 3 июня 1941 года: «В течение второй половины мая немцы увеличили свою группировку войск на 2–3 ПД (пехотных дивизий) и две бронетанковые дивизии СС. Особенно характерно прибытие артиллерийских частей, танковых подразделений и бронемашин. На основании ряда проверенных агентурных данных военная подготовка Германии против СССР за последнее время, особенно с 25 мая, проводится более интенсивно…» Разведотдел ЗапОВО на основании этих и других фактов предупреждает, что возможность начала военных действий против СССР не исключается в июне месяце. В разведсводке от 21 июня говорится: «1. По имеющимся данным, основная часть немецкой армии в полосе против Западного ОВО, заняла исходное положение. 2. На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усиления к границе. 3. Всеми средствами разведки проверяется расположение войск у границы.[22]
Истекали последние часы мирного июня 1941 года. Особое внимание наши Разведотделы уделяли вероятному времени нападения Германии на СССР. Так, в сообщении НКГБ БССР от 29 мая 1941 года указывалось, что война Германии с СССР должна начаться в ближайшее время (из сведений во время разговора с секретарем «Российского Фашистского Союза» В. Ковицким). Сотрудник гестапо, некто Конечный, высказался так: «Не позднее, как 20 июня 1941 года, должна начаться война с Советским Союзом». Одиннадцатого июня 1941 года заместитель наркома госбезопасности БССР С.Т. Духович докладывал Первому Секретарю ЦК КП(б)Б П. Пономаренко, что по полученным агентурным материалам, предоставленными УПВ НКВД БССР и опросам нарушителей границы установлено, что среди населения, а также со стороны служащих германской армии и железнодорожников распространяются слухи, что война Германии и СССР должна начаться в конце июня месяца 1941 года.[23] Эта информация дублировалась в Москву.
А что Кремль – высшее политическое и военное руководство СССР и Красной Армии? В период «перестройки» и «победы демократии» внушались мысли о том, что во всем виноват Сталин: то он слишком верил Гитлеру и «Пакту о ненападении», то очень боялся Германии и Вермахта, то, по непонятным причинам, не доверял предупреждениям советской разведки, и плохо и мало готовил страну и армию к неизбежной войне. А в ответ на тревожные сигналы с мест успокаивал тем, что немцы выполняют все договоренности и никакой войны не будет, до последнего не верил в вероломство Гитлера, и не предпринимал необходимых мер для мобилизации на возможную агрессию нацистов. И лишь когда частично открылись архивы (в начале XXI-го века) и стали выходить более или менее достоверные воспоминания (без купюр) многих действовавших партийных, государственных и военных лиц, появились научные труды, опирающиеся на имевшиеся архивные материалы, стали создавать честные и объективные телепередачи о начальном и предвоенном периодах нашей общей истории ‑ появилась реальная возможность подробно исследовать, обобщать, анализировать и делать выводы, какими бы неприятными, горькими они не были бы, и не укладывающиеся в ту схему, которую нам навязывали много лет. Осознавали ли в Кремле всю опасность, грозящую СССР от Третьего рейха, какие предпринимались встречные контрмеры, чтобы не допустить нацистскую агрессию или, если она произойдет, дать решительный отпор. Частично о принимаемых мерах по укреплению промышленности и мощи Красной Армии уже говорилось ранее.
Известно, что для вторжения и захвата европейской части СССР немецким руководством были созданы три мощные группы Вермахта и войск, стран ‑ союзников Германии: «Север», «Центр», «Юг» и группировка армий восточной Финляндии с численность в 5,5 миллиона солдат и офицеров. На их вооружении находилось свыше 47 тысяч орудий и минометов, около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов. [24]
Это была невиданная в истории войн колоссальная концентрация войск и боевой техники. Гитлеровская Германия, ее генералитет и высшее военно-политическое руководство сделали ставку на сверхмощный единый и внезапный удар по советским войскам, быстрый их разгром и последующий захват основных промышленных, сельскохозяйственных и добывающих районов Советского Союза, парализацию транспортных узлов и коммуникаций.
Что этому к 22 июня смогла противопоставить Красная Армия? СССР имел 303 дивизии: 198 стрелковых, 13 кавалерийских, 31 моторизованную, 61 танковую, 22 бригады ‑ общей численностью более 5,2 миллиона человек. В западных военных округах находилось 170 дивизий и 2 бригады. На их вооружении 13 тысяч танков (из них 8,8 тысячи исправных), 7,4 тысячи боевых самолетов, 46 тысяч 830 стволов артиллерии и минометов. Если сравнивать, то советские войска на западе страны уступали войскам Германии, и ее союзникам почти в два раза по численности. Но по танкам превосходили в 2,5 раза, в полтора раза по количеству самолетов, практически равны были по артиллерии и минометам.[25]
Так что если судить по такому показателю как количество, то никаких особо тревожных ожиданий не должно было быть, если, конечно, не учитывать качественное превосходство Вермахта, боевой опыт почти двух лет современной войны у гитлеровских войск, более лучшей авиации, умения правильно и быстро применять танковые соединения, высококвалифицированный офицерский корпус и хорошо обученный рядовой состав, лучшее обеспечение автотранспортом. Однако быстро догнать Вермахт по качеству войск было невозможно в тех конкретных условиях. Сталин и руководство СССР видели приближение войны, знали о сосредоточении немецких войск на западных границах, но хотели максимально ее оттянуть, чтобы лучше подготовиться к обороне страны. В Москву поступило более 100 сообщений от советских разведчиков о подготовке агрессии Германии.
В стране проводились определенные оборонительно-подготовительные меры, учитывая, хоть частично, информацию от разведорганов. В феврале 1941 года был утвержден новый мобилизационный план (МОБ-41). В соответствии с ним намечалось сформировать десятки новых дивизий. С учетом опыта, ведущейся Второй мировой войны, было принято решение о создании механизированных корпусов, о реорганизации ВВС, о создании дальнебомбардировочной авиации. В условиях весны – начала лета 1941 года были приняты дополнительные меры по усилению приграничных округов. Из Сибири, с Дальнего Востока, из Средней Азии выдвигались стратегические резервы в составе пяти армий (16-я, 19-я, 21-я, 22-я, 20-я) и одного корпуса. Одна армия и корпус направлены в Украину, еще одна в Прибалтику, а три армии в Белоруссию. Такое изменение выдвижения резервов, когда основная часть резервов направлена в Белоруссию на рубеж реки Днепр и Западной Двины, а не в Украину, было связано со следующим обстоятельством. И.В. Сталин, основываясь на добытых разведкой данных о плане генерала Маркса, отверг предложенный Генеральным штабом Красной Армии, которым тогда руководил маршал Б.М. Шапошников, план обороны западной границы. Не согласился он и с выводом Генштаба, что в случае нападения гитлеровской Германии, главный удар будет нанесен через Белоруссию на смоленско-московском направлении, как впоследствии и оказалось. [26]
Но когда весной 1941 года стало известно, что главные силы Вермахта сосредотачиваются севернее Полесья, никто не решился сообщить Сталину о его стратегической ошибке. Слишком сильно проявлялся «культ личности» ‑ Сталин не мог ошибаться! Для тех, кто думал, тем более говорил «не так», существовал НКВД, лагеря заключенных, а то и расстрел. Очень жива была среди военных память о репрессиях 1937–1938 годах. Хотя факты вещь упрямая и высшее военное командование решило «в рабочем порядке» часть сил с Украины перебросить в район Смоленска. Однако войска должны были прибывать туда и в Белоруссию только в первых числах июля. Правительство в начале 1941 года утвердило лишь план мобилизации и план строительства Вооруженных Сил на текущий год, что явно было недостаточно для отражения вторжения. Из почти 12 миллионов учтенных военнообязанных более четырех миллионов были необученными, не владели даже элементарными знаниями военного дела. Особенно острым был недостаток в пулеметчиках, минометчиках, артиллеристах, радистах водителей автомашин, трактористах, а также техников и инженеров.[27] Слабых участков было много.
Большое значение в 1940 году – первой половине 1941 года придавалось накоплению государственных ресурсов и мобилизационных запасов. Их объемы за полтора года возросли в два раза, что позволяло быстро вооружить и обмундировать несколько миллионов, призванных в ряды армии, и, в случае войны, обеспечить, хотя бы на несколько месяцев, работу многих предприятий оборонной промышленности. С конца мая 1941 года начался призыв 793 тысяч советских граждан из запаса «для прохождения учебных сборов». Так начиналась постепенная и частичная мобилизация, была задержана и демобилизация старослужащих Красной Армии в связи со сложной и опасной международной обстановкой. Это позволило, не привлекая внимания за рубежом, увеличить численность Красной Армии к концу июня 1941 года по сравнению с 1937 годом в три раза и превысить цифру состава армии более чем на пять миллионов человек. Для обучения сотен тысяч призывников и для командования ими, нужны были квалифицированные военные кадры. Откуда их взяли, прямо пишет в своих мемуарах один из руководителей НКГБ СССР П.А. Судоплатов: «Правда, половину из репрессированных военных чинов возвратили из тюрем и лагерей ГУЛАГа в армию, но их явно было недостаточно, чтобы управиться с обучением всей массы новобранцев.[28]
Отдельно принимались меры по обеспечению управляемости войсками пограничных округов, их безопасности и связи. Двадцать седьмого мая принимается решение о создании фронтовых полевых командных пунктов управления, хорошо защищенных от ударов авиации и вынос на них штабов округов, которые в случае войны сразу становились штабами фронтов. Срок готовности фронтовых пунктов, с 13-го июня. К сожалению, сроки строительства затягивались.
Так в Минске только в первый день войны инженерно-техническим работникам было поручено построить командный пункт-убежище. В бункере предполагалось сосредоточить центр обороны Минска. Было приказано сделать его из материалов особой прочности и оснастить новейшими средствами связи. Строители беспрерывно трудились несколько суток, не уходя домой на отдых. Но 24 июня строительство бункера было прекращено из-за приближения к городу немецких войск и начала эвакуации в сторону Могилева, включая командование ЗапОВО, руководства ЦК КПБ (б) и руководящих сотрудников.[29]
Интересная ситуация произошла в высшем советском руководстве 15 мая 1941 года. Располагая достоверными данными разведки о завершающейся подготовке Германии к нападению на СССР, Нарком обороны Тимошенко и начальник Генштаба Жуков встретились со Сталиным и представили на его рассмотрение проект директивы о приведении всех войск Красной Армии в полную боевую готовность. Было предложено нанести упреждающий удар по гитлеровским войскам, еще не успевшим окончательно сгруппировать силы и частью находившиеся еще на транспортных коммуникациях, когда их штабы были разбросаны, а авиация не собрана в единый кулак. Сам проект директивы подготовил заместитель начальника оперативного отдела Генштаба А.М. Василевский, будущий дважды Герой Советского Союза, маршал и с июля 1941 года начальник Генерального штаба Красной Армии, выдающийся военный стратег и опытнейший штабист. Этот проект директивы отнюдь не был случайным. Еще в марте 1941 года был разработан первый план контрудара по Вермахту в случае его вторжения в СССР. План имел название «Гром» и он должен был начаться, если Гитлер и его генералы решатся на агрессию против СССР, после 12 июня 1941 года. Когда стало ясно к середине мая, что подготовка войск не успевает к этому времени, был принят второй план контрудара под названием «Гроза». Его срок был отложен для лучшей и полной подготовки наших войск на период после десятого июля.[30]. Но Гитлер и его военно-политическое руководство ждать не стали и начали войну 22июня 1941 года. Однако Сталин не принял проект директивы от 15 мая. Почему? На наш взгляд, было несколько причин. Во-первых, вполне могла сложиться мировая антисоветская военная коалиция Германии и ее союзников с США и Англией, если бы Советский Союз стал зачинщиком войны с Германией. Для такого возможного поворота событий были определенные предпосылки: 10 мая в Англию перелетел заместитель Гитлера по нацистской партии Гесс, с которым уже велись переговоры и к чему они могут привести никто не знал; в США предпринимались меры явно антисоветского характера ‑ 15 января распоряжением президента Ф.Рузвельта вводились на импорт из США всех товаров «генеральные лицензии», а СССР их не получил, американские власти 7 мая задержали товары, закупленные в Аргентине и Уругвае. Как указывал госсекретарь США К.Хэлл существо «русской» политики Соединенных Штатов перед нападением Германии на СССР заключается в том, чтобы не предпринимать никаких шагов для сближения с Россией.[31].
Ведь США были первой в мире державой по экономической, промышленной, финансовой мощи. Если бы Красная Армия первой нанесла удар, то о союзе СССР с США и Англией не могло бы быть и речи. А вот когда нацистская Германия развязала войну с СССР, вероломно напав на него разорвав «Пакт о ненападении», и «Договор о дружбе и границах», от августа и сентября 1939 года, всем, в том числе и правящим кругам США и Англии, стало абсолютно ясно, что с Гитлером договариваться о чем-либо нельзя категорически, ибо он раньше или позже нарушит любые договоры и обязательно нападет. Так что отказ Сталина от утверждения проекта директивы от 15 мая 1941 года стал решительным шагом к началу создания летом-осенью 1941 года антигитлеровской коалиции. Во-вторых, большие колебания проявляла союзница Германии ‑ Япония. В правящих кругах шла острая борьба между сторонниками «северного варианта» экспансии Японии, то есть, войны с СССР на Дальнем Востоке и сторонниками «южного варианта», то есть войны с США и Англией за источники сырья и рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Только второго июля императорская конференция, всесторонне и тщательно обсудив начало войны Германии с СССР, приняла «южный вариант». Дело было ни в миролюбии Токио, а в последовательности решения внешнеполитических задач. При этом, формально следуя заключенному 13 апреля договору с СССР о нейтралитете, конференция постановила: «Если германо-советская война будет развиваться в направлении благоприятном для империи, она, прибегнув к военной силе, разрешит северную проблему…» [32]
Советский Союз вполне мог получить войну на два фронта, и с Германией, и с Японией, если бы взял на себя инициативу в военном столкновении с Вермахтом в конце мая ‑ начале июня 1941 года. Да и после 22 июня все зависело от сопротивления советских войск, в том числе и в Белоруссии, где они только одни могли во многом затормозить план «Барбаросса» и нанести вермахту ощутимые потери. В-третьих, Сталин, обладал более полной и точной информацией и о состоянии Красной Армии, и о работе оборонной промышленности, и о недостатках командных кадров советских войск, и о далеко неполной подготовке рядового состава, не мог не учитывать возможности серьезных проблем и сбоев в случае принятия решения о реализации проекта директивы. Он надеялся, что у него есть еще несколько месяцев для устранения хотя бы первоочередных недостатков, а 303 дивизии являются очень серьезной сдерживающей силой для Гитлера и Вермахта, тем более, что Красная Армия имела явное преимущество в количестве танков и самолетов. Было еще и в-четвертых, но кроме Сталина и нескольких, особо доверенных лиц, никто не знал о его стратегическом выборе и плане. Остальных, даже членов Политбюро и руководителей Красной Армии, просто поставили бы перед фактом и указали, что и как делать, когда наступил бы решающий момент. Но Сталин, с совершенно правильным выводом, оставив без внимания проект оперативного плана руководства Красной Армии, в виде директивы от 15 мая 1941 года, допустил, вместе с Жуковым и Тимошенко, крупную стратегическую ошибку, которая дорого обошлась и стране, и народу, и армии. У великих людей бывают и великие заблуждения. Они переоценили возможности наших танковых соединений, сухопутных и военно-воздушных сил. Не совсем ясно представляли себе, что такое современная война в плане координации действий всех родов войск ‑ пехоты, авиации, танков, артиллерии и служб связи. Им казалось, что главное ‑ количество дивизий, и они способны будут сдержать любое наступление и воспрепятствовать немецкому продвижению на советскую территорию.[33]
Так что у Вермахта был серьезный противник, но пока еще не скоординированный, действующий часто порознь, не имеющий значительного опыта и четкого руководства.
Теперь о возможности. Как ни посмотришь теле- и кинофильмы, не прочтешь мемуары участников событий лета 1941 года, то всюду встретишь ‑ агрессия фашистов была внезапной. Мы мало что знали, а в Кремле, почему-то не верили донесениям нашей разведки и почти не принимали оборонительных мер. Те, кто так снимает или пишет, плохо представляют себе крайне сложную и очень опасную обстановку на западных границах СССР, да и последствия тех или иных ответных шагов. Внезапность по своему виду бывает разной: стратегической, оперативной, тактической. И все сводить к тому, что Сталин и высшее военное командование только одни виноваты в том, что войска Красной Армии не были приведены в готовность для немедленного отпора гитлеровским войскам, не была дана команда «В ружье!» ‑ неправильно и исторически, и фактически. Меры для обороны предпринимались, но без широкой огласки, разрозненные, не комплексные, часто запоздалые ‑ не дали того результата, на который рассчитывали. Если говорить о стратегической внезапности, то ее не было. Все прекрасно понимали, что рано или поздно решительная схватка с ударным отрядом мирового империализма (нацистской Германией и ее союзниками) неизбежна и будет довольно скоро. Это особо обострилось после захвата гитлеровцами, (с согласия Англии, Франции и США) Чехословакии осенью 1938 ‑ начале 1939 года, военного разгрома Польши в сентябре 1939 года и Франции в мае -июне 1940 года и оккупации ряда других европейских стран весной 1940 ‑ весной 1941 года. И никакие договоры СССР с Германией ничего в принципе изменить не могли. Немцы открыто стремились к мировому господству, к ограблению и порабощению других стран и народов, к уничтожению десятков миллионов «недочеловеков», в первую очередь славян, евреев, цыган, всех, кто проявляет непокорность и сопротивление. Внезапности оперативной, по большому счету, тоже не было.
Первое предупреждение о повороте немецкой военной машины против СССР было получено в Москве от агентурной разведки еще девятого июля 1940 года, а в сводке разведотдела Штаба Киевского особого военного округа № 20 от 20-31 июля 1940 года, говорилось о переброске войск Вермахта освободившихся после Франции, в Польшу и значительном движении на территории Польши германских войск общей численностью 35 дивизий.[34]
На основе этих и других данных начальник Генштаба Красной Армии Б.М. Шапошников предложил план обороны СССР. По этому плану неожиданный и мощный удар по основным силам наших войск на западных рубежах страны можно было избежать, разместив их не на новой границе 1939‑1940 годов, а на старой.
Решился бы Гитлер на вероломное нападение, если бы перед ним на глубине 200‑300 километров расположились около трех миллионов красноармейцев и командиров, оснащенных 14 тысячами танков и 32 тысячами орудий, хорошо окопавшихся и опиравшихся на сильные укрепления «линии Сталина», возводившихся многие годы на старой границе?![35]
Перемещение на восток таких масс войск и боевой техники не могло пройти мимо глаз и ушей немецкой разведки, мимо Генерального штаба Вермахта. И «план генерала Маркса», как и идеи плана «Барбаросса», были бы надолго отложены, так как советские войска вовремя выходили из – под удара, и были готовы к обороне. Пришлось бы отложить нападение в 1941 году, а 1942 год был бы в этом случае под большим вопросом и реально планировать агрессию могли только в 1943 году. Но Сталин и сталинское руководство отвергли этот план Шапошникова, а сам он был снят с поста начальника Генштаба. В Политбюро ЦК ВКП(б), в правительстве СССР, многие видные генералы негодовали: как он посмел предложить отступить перед Вермахтом, отойти назад без боя, отдать несколько миллионов белорусов, украинцев, народов Прибалтики на милость нацистов в случае войны?! Как показал дальнейший ход истории, это была трагическая ошибка.
Но одно дело ‑ желания руководителей, и совсем другое — их возможности. Надо отдать должное Сталину: он не репрессировал Шапошникова, а отдавая дань его профессионализму, опыту, дисциплинированности и тому, что он никогда не вмешивался в политику, отлично выполнял все, что ему поручали, переместил на должность заместителя наркома обороны СССР. А в самое тяжелое время, в июле 1941 года, Шапошников снова возглавил Генштаб и делал все, что мог для организации противодействия гитлеровской агрессии Красной Армией. Так что время и возможности для реагирования были. Но как их использовали ‑ другое дело.
Внезапность тактическая частично гитлеровцам удалась. Причина была в замедленном и не полном реагировании руководства страны и армии, да и меры, направленной дезинформации и строгой секретности конкретных сроков нападения, давали определенный результат. Не всегда и не везде, но все же сильно запутывали обстановку и противоречивые устремления нацистов. А еще и позиция правящих кругов США и Англии, которые всячески провоцировали быстрейшее военное столкновение Германии и СССР. Играла роль очень неопределенная, вплоть до 22 июня, позиция Японии. А получить войну на два фронта для СССР было крайне опасно.
При этом резкое возрастание угрозы агрессии нацистской Германии подталкивало знающие реальное положение дел верхи к определенным шагам в подготовке действий, если война все же разразится. Генерал П.А. Судоплатов, в то время один из руководителей разведки НКГБ СССР, вспоминает в своих мемуарах: «В апреле я подписал специальную директиву, в которой всем нашим резидентурам в Европе предписывалось всемерно активизировать работу агентурной сети и линий связи, приведя их в соответствие с условиями военного времени». 16 июня, когда П.С. Фитин (начальник внешней разведки НКВД–НКГБ СССР) вернулся из Кремля, Л.П. Берия отдал Судоплатову приказ об организации Особой группы из числа сотрудников разведки в его непосредственном подчинении, Она должна была осуществлять разведывательно-диверсионные акции в случае войны. До начала войны осталось шесть дней. Судоплатов пишет: «…мы составляли планы уничтожения складов с горючим, снабжавших немецкие моторизованные и танковые части, которые уже начали сосредотачиваться у наших границ». Вот чем занималась в оставшиеся дни до войны Особая группа. Она должна была быть готовой через десять дней и располагать специальным боевым резервом в 1200 человек из состава пограничников и внутренних войск.[36]
Двадцатого июня, за два дня до войны, всем пограничникам на западных рубежах СССР выдали по три боекомплекта к винтовкам и пулеметам, приказали отрыть окопы, траншеи, соорудить дзоты и быть готовыми к отпору, если немецкие войска пересекут границу. Они должны были сражаться до подхода частей Красной Армии, которые остановят, а затем отбросят назад войска агрессора, и таким образом окончательно снимут проблему тактической внезапности. То, что 18, 19, 20 июня 1941 года, как в территориальные подразделения, так и по линии военной контрразведки (военная контрразведка в этот период подчинялась наркому обороны), в штабы и командованию пограничных и внутренних войск, дислоцированных в Белоруссии, в Украине, в Прибалтике были переданы указания о боевой готовности, командование военных особых пограничных округов не знать не могло. Боевая готовность там, куда переданы были указания, была объявлена фактически 21 июня в 21 час 30 минут, за шесть с половиной часов до начала войны. [37]
Ответы на вопрос, почему директивные указания, переданные в войска трижды еще до 22 июня, не были доведены до сведения командующих армий, мехкорпусов и дивизий Красной Армии, дислоцированных на территории ЗапОВО, видимо надо искать не во внешней политике, не в донесениях советской разведки, а в хитросплетениях внутренней политики, особенно военной. Интересно, что боевая готовность была объявлена до получения санкционированной Сталиным директивы («Директива № 1») наркома обороны утром 22 июня, после получения в Кремле подтвержденных данных о начавшейся войне и переходе войсками Вермахта советской границы, бомбежке наших городов и военных объектов самолетами ВВС Германии.[38] Оказывали посильную информационную помощь руководству СССР и те представители Англии, которые располагали точными данными от английской разведки, поскольку они обоснованно тревожились по поводу возможной тактической внезапности нападения Вермахта на СССР, так как хорошо понимали, что успешные действия нацистской Германии в СССР летом 1941 года несут смертельную угрозу независимости и суверенитету Англии, ее народу и государственному строю. Так, например, в семь часов вечера 21 июня в МИДе СССР получили телеграмму от советского посла в Лондоне И.М. Майского, которую тут же передали в Кремль. С. Крипс, английский посол в Москве, находившийся в отпуске в Англии, информировал советского коллегу, что немецкое нападение состоится завтра, 22 июня, в крайнем случае, 29 июня.
На определенные мысли наводят и следующие факты: в мае Тимошенко и Жуков дали приграничным военным округам директиву о разработке «детальных планов обороны государственной границы» со сроком исполнения 20-30 мая. Но такие детальные планы разрабатываются не за 2-3 недели, а большими коллективами штабов несколько месяцев, отрабатываются на военно-штабных играх командованием и утверждаются высшим руководством страны. Ничего подобного не происходило. Значит готовился (пусть его и отверг Сталин 15 мая) превентивный, упреждающий удар по вермахту, по Третьему рейху? Однако, как утверждает генерал Горьков, изучавший этот вопрос: «в оперативных документах всех западных приграничных округов никакие планы наступательных операций не были предусмотрены.
Получается: планы обороны не успевали разработать, планов нападения не было, а что же было? Ведь армия не могла в такой взрывоопасный момент, находиться без четкого, ясного и продуманного, хотя и сверхсекретного плана действий. И такой план, на наш взгляд, был и последовательно претворялся в жизнь.
Он не опубликован и по сей день. Возможно, нет единого документа, а есть набор взаимосвязанных, хотя и разных документов, многие из которых, вероятно, уничтожены в ходе различных чисток архива Сталина: в 1953, 1956, 1959, 1964 и последующие годы, а также в периоды сложной, противоречивой и непредсказуемой истории СССР.
Сталин, в силу своего авторитарного и недоверчивого характера, мог и не посвящать в свои многоходовые комбинации высших военных руководителей Красной Армии. Они были на уровне исполнителей, а не политических фигур. Даже большинство членов Политбюро, которое к этому времени превратилось в исполнительный орган при единоличном лидере партии и государства не знали о планах Сталина. Как очень метко сказал М.А. Шолохов о 30-х ‑ начале 50-х годах: «ДА, был культ личности, но была и Личность!». Н.С. Хрущев, яростный критик И.В. Сталина после его смерти, признавал: «Не знаю, кто из членов Политбюро знал о состоянии нашей армии, ее вооружения и военной промышленности. Думаю, что этого, видимо, никто не знал, кроме Сталина».
Сталин и его ближайшее окружение не собирались безоглядно нападать на Германию. В этом не было никакой необходимости. Они уверовали, и ряд сведений это подтверждало, что нацисты не нападут на СССР, оставив нерешенным британский вопрос. Удобные сроки предстоящего вторжения в Англию укладывались в период июль – август. С середины сентября на военные операции на море и в воздухе могла влиять неблагоприятная погода. Высаживать десант без подавления английской авиации и флота было безумием. Да и для предотвращения успешного десанта Гитлер и его командование вынуждены были бы направить туда лучшие свои войска, основную массу боевой техники. А вот тогда, после начала вторжения Вермахта в Англию, наступило бы время для «освободительного похода» Красной Армии в оккупированную гитлеровцами Европу, где она получила бы поддержку угнетенного и ограбленного населения.[39]
Англия и США никогда не оказали бы помощь СССР, если бы он выступил в качестве агрессора, но обязательно помогли бы жертве фашистской агрессии, защищая свои национальные интересы, народы и страны от гитлеровских планов мирового господства «арийской расы». Спешить было некуда. Но при одном обязательном условии ‑ если Гитлер собирался реализовать план вторжения в Англию. Отсюда и категорические требования не давать руководству Третьего рейха ни малейшего повода усомниться в нейтралитете СССР, дабы не вспугнуть «Морского Льва» (операция по высадки Вермахта в Англию). И крайне слабое реагирование на регулярные нарушения воздушного пространства немецкими самолетами, в том числе десятки в Белоруссии, неприятие действенных контрмер на все усиливающееся сосредоточение и развертывание дивизий Вермахта у наших западных границ, включая группу армий «Центр» против ЗапОВО.
Преувеличивал Сталин в своих расчетах и страх Гитлера перед войной на два фронта. У Англии не было ни физических, ни материальных возможностей высадить сильный десант в Европе ни в 1941, ни в 1942 годах: Английская армия для этого была еще слаба, недостаточно обучена и не вооружена «до зубов». В основном могли успешно действовать только бомбардировочная авиация и флот. США еще не воевали ни с Японией, ни с Германией. Им нужно было значительное время, чтобы создать десятимиллионную регулярную и хорошо снаряженную армию, произвести десятки тысяч самолетов и танков, построить флот, который господствовал бы на Тихом и Атлантическом океанах. С Красной Армией нацистская Германия рассчитывала справиться всего за 3 – 4 месяца, а то и раньше. В этом случае никаких двух фронтов у Германии не было бы. Опять все решалось на весах мировой геополитики, устойчивость и мужество в крайне неблагоприятных условиях советских воинов западных округов, степень их поддержки населением Белоруссии, Украины, других регионов Советского Союза.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ЗАГАДКА 22 ИЮНЯ
Сталин не был бы Сталиным, 29 лет успешно руководившим Советским Союзом до марта 1953 года, если бы у него не было резервного варианта. В чем же он заключался? На наш взгляд, при анализе имеющихся фактов, главная идея Сталина заключалась в нанесении сильного контрудара в случае нападения Вермахта. Ибо лучшая оборона ‑ контрнаступление всеми силами на вторгшегося врага. Первый эшелон ‑ войска пограничных особых западных округов сдерживают противника, который увязнет в приграничных сражениях. А сил у пограничных войск (дивизий пехоты, количества танков, самолетов, артиллерии), по имеющимся в Кремле донесениям, было вполне достаточно, и какого-либо весомого количественного превосходства над нашими силами у Вермахта не было. На поддержку войскам первого эшелона должны были подойти войска второго эшелона, перебрасываемые на запад из внутренних округов ‑ Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Они должны были поддержать первый эшелон и разгромить уже выдохшиеся и обескровленные, потерявшие в живой силе и боевой технике дивизии Вермахта. А в глубоком тылу в ходе мобилизации развертывался с началом войны третий эшелон, который окончательно добивал войска Третьего рейха и его союзников, и начинал освобождение Центральной, Южной и Западной Европы от гитлеровских оккупантов. Были ли для этих колоссальных боевых задач необходимые силы? Да, были. После объявления мобилизации, численность всех родов войск Красной Армии должна была составить 8,9 миллиона человек, что превышало численность всех войск Германии, имевшей 8,5 миллиона человек, разбросанных по всей захваченной Европе ‑ от Югославии до Франции, от Норвегии до Северной Африки. По вооружению советские войска должны были иметь к середине июля 1941 года 106,7 тысяч орудий и минометов, около 37 тысяч танков в составе 30 механизированных корпусов, 22,2 тысячи боевых самолетов, 10,7 тысяч бронеавтомобилей, 91 тысячу тракторов (для использования в тех местах в Европе, где были плохие дороги или они вовсе отсутствовали), 595 тысяч автомашин (включая мобилизованных из народного хозяйства). Эти цифры содержались в мобилизационном плане МП-41, подписанном наркомом обороны Тимошенко и начальником Генштаба Жуковым 12 февраля 1941 года, и, которые, легли в основу Соображений по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками в мае 1941 года под названием «Гроза».
Мобилизаций личного состава предполагалось несколько и стрелковое оружие, чтобы не везти его через полстраны для мобилизованных, складировалось в приграничных районах. В ходе Великой Отечественной войны в Красную армию было мобилизовано более 20 миллионов граждан, из них свыше одного миллиона трехсот тысяч дала Белоруссия. В приграничных районах заранее, еще до войны создали запасы винтовок. По данным наркомата обороны их резервное количество составляло 8 миллионов.[40]
Такая мощь явно была избыточной для обороны, но необходима для успешного контрнаступления. Именно поэтому Сталин не принял в августе 1940 года оборонительный план Шапошникова и отверг 15 мая 1941 года план Тимошенко – Жукова – Василевского о превентивном ударе Красной Армии по войскам Вермахта. Необходимо было для задуманной стратегии, чтобы Германия первая нанесла удар по СССР и перед всем миром ясно показала, кто является агрессором, а кто жертвой, и кто только защищается. Правда, защищаться Красная Армия, по расчетам Кремля и Генштаба, должна была успешно громя вторгшиеся гитлеровские войска, и победоносно переходя через границу на Запад. Кто же виноват, что Вермахт «подготовился» к нападению недостаточно хорошо, что мало у него было сил и вооружения, что у немецких штабов плохо составлены планы боевых операций?!
Было еще одно важное обстоятельство, которое подталкивало Сталина на необходимость военных действий летом 1941 года, а не откладывать их до 1942 или 1943 годов. Это диктовалось крайне тревожными сведениями, поступавшими из Берлина в научно-техническую разведку НКВД, возглавлявшуюся в то время Л.П. Квасниковым, выходцем из Белоруссии. В конце 30-х и начале 40-х годов, в наиболее развитых в научном и техническом плане, странах мира, развернулся первый этап научно-технической революции. В условиях Второй Мировой войны, эта революция носила ярко выраженный военный характер. В лидерах оказалась нацистская Германия, которая имела широкую и разнообразную научную базу, громадный промышленный потенциал. Она щедро финансировала очень многие военные разработки, особенно по новейшим видам оружия. Были в Германии и талантливые ученые, конструкторы и инженеры, многочисленные кадры высококвалифицированных техников и рабочих, достаточно было и научного оборудования, и приборов. Значительное внимание уделяло нацистское руководство и ведущие генералы Вермахта возможным новым видам вооружения, которые, в случае успеха, могли привести к выигрышу Второй мировой войны и установления мирового господства «арийской расы» во главе с нацистской партией в форме Третьего рейха. Конечно, преследование научно-технических сотрудников ‑ евреев, а тем более антифашистов, независимо от национальности, значительная их эмиграция из Германии в другие страны, наносило определенный ущерб научным и конструкторским разработкам и исследованиям, но не играло решающей роли.
Шли усиленные разработки первых реактивных боевых самолетов ‑ ракетного истребителя МЕ – 163, который начали проектировать еще до войны. В 1938 году, почти законченный проект, вместе с конструкторской группой и его главным конструктором А. Липпишем, был передан военно-авиационной фирме «Мессершмитт», которая уже имела опыт создания скоростных самолетов. Технические проблемы создавали двигатели. Инженеры «Мессершмитта» стали доводить конструкцию самолета самостоятельно. Новый образец стал обозначаться МЕ-163 В. После доводки, в военные годы максимальная скорость самолета достигла 896 километров в час на высоте 12 километров. Сбить такой самолет представлялось бы довольно затруднительно. Сам же он мог нагнать и сбить практически любой самолет того времени.
Наряду с фирмой «Мессершмитт», реактивными истребителями занималась и фирма «Хейнкель». В начале 1941 года она создала жидкостно-реактивный двигатель. Второго апреля 1941 года в Германии поднялся в воздух «Хейнкель-250», оснащенный этим двигателем, достигший скорости 780 километров в час. Позже его еще вооружили тремя авиационными 20-и миллиметровыми пушками. На нем же впервые установили катапульту для спасения летчика, если самолет будет подбит или потерпит аварию. Немцы берегли своих летчиков, подготовка которых занимала длительное время и стоила дорого. Авиационный конструктор Липпиш построил свой первый ракетный самолет (на жидкостно-реактивном двигателе) под маркой DFS уже в 1940 году. В ноябре 1941 года опытный образец на испытаниях развил невиданную по тому времени скорость ‑ 1003 километра в час. Для сравнения: в 1940 году в СССР были приняты на вооружение ВВС Красной Армии истребители: ЯК-1, максимальная скорость которого была 580 километров в час (на 316 меньше, чем у немецкого МЕ 163-В); ЛаГГ-3, максимальная скорость которого была 549 километров в час (на 347 меньше, чем у МЕ 163-В); МИГ-3 со скоростью 640 километров (на 256 меньше). Все они были поршневые. Германии удалось до апреля 1945 года выпустить серийно около 2000 реактивных истребителей, и это несмотря на ожесточенные бомбежки немецких авиационных заводов англо-американскими бомбардировщиками. Их небольшое использование немцами осенью 1944 ‑ весной 1945 года было связано с двумя обстоятельствами ‑ острой нехваткой топлива и малым сроком живучести реактивных двигателей. А если бы Германия, хотя бы в относительно мирной обстановке пробыла еще 1,5-2 года? Ведь топлива еще хватало, да и новые реактивные моторы довели бы «до ума». Кто бы тогда господствовал в небе? [41]
Другим важным и перспективным проектом в Германии, в это время, являлась разработка и создание ракетного оружия, действовавшего на значительное расстояние. По мысли немецкого генералитета, баллистические ракеты дальнего действия (в то время несколько сот километров) должны были использоваться, главным образом, как носители отравляющих веществ, в войне с применением химического оружия, а также для ударов, которые невозможно парировать, по городам и объектам оперативного и стратегического тыла противника. Они могли действовать, как во взаимодействии с бомбардировочной авиацией, так и в варианте самолето-снарядов (по-современному ‑ крылатых ракет). В 1936 году началось строительство ракетного центра в Пенемюнде, где создавался полигон «Пенемюнде‑Вест», ‑ для разработки и испытаний новых видов вооружения, в том числе беспилотных самолетов, и экспериментальная ракетная станция сухопутных войск «Пенемюнде-Ост», занимавшаяся разработкой баллистических ракет.
Денег на ракетный центр не жалели. Только за период 1937‑1940 годы на его усовершенствование и разработку ракетного оружия было отпущено 550 миллионов марок. Во главе проектов были поставлены талантливые инженеры-конструкторы В. Дорнбергер и В. фон Браун, члены нацистской партии. В марте 1939 года Пенемюнде посетил Гитлер для личного ознакомления с ходом работ над «оружием особого назначения». Доклады Дорнбергера и фон Брауна, о боевых возможностях ракет и беспилотных самолетов, и, состоявшиеся в присутствии фюрера, демонстрационные пуски опытных моделей, произвели на Гитлера сильное впечатление. С начала Второй мировой войны Пенемюнде был объявлен «особой зоной», туда была стянута зенитная артиллерия, а на аэродроме базировались истребители и пикировщики. Тщательным образом была проведена проверка всех имевших доступ в ракетный центр и лиц, проживавших около него. Сто двадцать ученых и тысячи рабочих трудились над проектом управляемой ракеты, известной, как ФАУ-2. Она должна была нести боеголовку массой в одну тонну взрывчатки и дальностью действия около 300 километров. В марте 1941 года Гитлер включил, этот проект в список оружия, имевшего «высший приоритет».
По линии крылатых ракет тоже проводились, хотя и медленно, работы и испытания. Не все сразу получалось, требовались многочисленные эксперименты и запуски. Особые трудности доставляла система управления. Вначале разработали проект управляемого по радио беспилотного самолета-аэроразведчика с поршневым двигателем. Он демонстрировался гитлеровскому руководству 1 июля 1939 года. Осенью 1939 года министерство авиации предложило фирме «Аргус» разработать управляемый по радио самолет-снаряд с дальностью полета 560 километров, для ударов по тыловым объектам на территории Англии, но она пока не смогла обеспечить заданную точность стрельбы и выдержать заданную дальность действия. Однако работы в области создания крылатой ракеты продолжались. Учитывая предыдущие ошибки и результаты пусков в июле 1941 года, фирмы «Аргус» и «Физилер» предложили техническому управлению министерства авиации реальный проект самолета-снаряда с дальностью действия 250 километров и весом боевого заряда до одной тонны и вероятным отклонением от цели около 0,5 километра. Проект был одобрен и начались работы по его воплощению в жизнь.[42]
Пусть это были еще опытные, экспериментальные, единичные образцы, но их разработка шла непрерывно, с постепенным выполнением поставленных заданий по техническим характеристикам. В условиях отсутствия Восточного (советско-германского) фронта баллистические и крылатые ракеты могли быть приняты на вооружение в скором времени. Ничего подобного ни у СССР, ни у Англии, ни у США не было. Ракетная угроза явственно повисла над миром.
Особо опасным не только для СССР, но и для всего человечества являлся начавший осуществляться атомный проект нацистской Германии. В начале и летом 1939 года были сделаны важные открытия в атомной физике: в январе немецкие ученые О. Ган и Ф. Штрассман открыли, что под градом нейтронов атомы урана «лопались», «расщеплялись», «делились». В апреле французские ученые Ф. Жолио-Кюри, Х. Халбан и Л. Коварски доказывают возникновение цепной реакции, а в августе экспериментально доказано, что цепную реакцию можно вызвать искусственно, то есть в принципе можно создать ядерный реактор. Тяжелая вода, как рассчитали ученые, уменьшает скорость нейтронов и редко поглощает их. К 1939 году были разработаны различные методы получения тяжелой воды. Но ее получение требовало очень большого количества электроэнергии. Она производилась с 1934 года только на одном заводе в мире ‑ в Норвегии. Тяжелая вода являлась идеальным замедлителем для атомного реактора, который в ходе работы мог получить искусственно из урана‑238, находящегося в природных условиях, уран‑235, который мог быть ядерной взрывчаткой огромной мощности. Основные месторождения урановой руды в то время находились в Африке ‑ в Конго, которое было колонией Бельгии.
У Германии в 1939 году не было ни тяжелой воды, ни урановой руды. В мире еще нигде не было ни ядерного реактора, ни готового циклотрона (ускорителя по исследованию ядерных частиц). Но в апреле 1939 года два физика из Гамбурга П. Хартек и В. Грот обратились в военное министерство с письмом, где указывали на принципиальную возможность создания на основе цепной реакции в уране нового вида высокоэффективного взрывчатого вещества. Вывод в их письме был очень ясным: та страна, которая сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими. Их поддержал К. Дибнер, нацист по убеждениям, член нацистской партии. Ядерную физику он изучал в университете в Галле и работал в научном отделе Управления армейского вооружения в 1939–1940 годах. С началом Второй Мировой войны многое изменилось. 16 и 26 сентября 1939 года состоялись два секретных совещания по вопросу возможностей использования атомной энергии и нужен ли вермахту подобный проект. Если решение будет положительным, значит, немецким ученым удастся создать мощный и долговременный источник энергии (атомный реактор), либо супербомбу. Всем было обещано, что «деньги на это найдутся». Были запрещены вывоз из Германии любых урановых соединений и публикация в научных журналах сведений по атомным исследованиям. Руководитель научных исследований военного министерства получил право отзывать в свое распоряжение любого военнообязанного и направлять его в научно-исследовательские центры и лаборатории.
Осенью 1939 года лучшие немецкие ученые ‑ физики под руководством Э. Шумана были объединены в «Урановое общество» при управлении армейских вооружений. Ведущими учеными стали Нобелевские лауреаты по физике В. Гейзенберг, О. Ган, крайне талантливый теоретик К. Ф. фон Вайцзеккер, инженеры-физики Н. Риль, фон Арденне и другие. «Поезд ядерных исследований» тронулся в путь. В 1940 году произошли важные изменения в возможностях Германии в области атомных исследований. В оккупированной Бельгии были захвачены 1200 тонн концентрата урановой руды, а в поверженной Франции ‑ почти готовый циклотрон. В руках нацистов оказался ведущий мировой теоретик ядерной физики Н. Бор и крупнейший исследователь ядерных реакций француз Ж. Кюри, а также единственный в мире завод по производству тяжелой воды в Норвегии. Активно действовали и сами немецкие ученые-физики. В начале 1940 года они сумели рассчитать, пока в теории, ориентировочный порядок массы ядерного заряда – от 10 до 100 килограммов. Американцы же пришли к тем же цифрам только в ноябре 1941 года, то есть, спустя более, чем полтора года, после немецких ученых. На сооруженной в Германии полупромышленной установке по разделению изотопов урана, начались эксперименты по выработке редкого изотопа уран-235, которого в природном уране содержится только 0,7%. Летом 1940 года началось сооружение трех немецких циклотронов. После полной оккупации Чехословакии в марте 1939 года в руках гитлеровцев оказались шахты по добыче урановой руды возле Исахимсталя.
В июле 1940 года, фон Вайцзеккер сделал принципиальный вывод о возможности получения ядерной взрывчатки нового типа ‑ плутония из обычного урана-238 в «урановой машине» (реакторе). Его теоретические расчеты были подтверждены в лаборатории Арденне в начале 1941 года, а в августе 1941 года Ф. Хоустерманс написал 39-и страничный доклад «К вопросу о развязывании цепной ядерной реакции». Значительный прорыв в ядерном исследовании был сделан в Германии в декабре 1940 года. Гейзенбергом был построен первый исследовательский атомный реактор. Но очень примитивный и недостаточно мощный. Началось производство металлического урана из необогащенной урановой руды, необходимого для сооружаемых в 1941‑1942 годах экспериментальных реакторов, для проверки их различных конструкций и для проведения научных опытов, а в последующем и для производства атомных бомб.
Германия первой в мире освоила производство металлического урана в промышленных масштабах. В течение 1941 года его было получено 2,5 тонны. За океаном о таких количествах и не мечтали, хотя атомные исследования в США начали с конца 1939 года, а в Англии в 1940 году. При этом, еще до оккупации немцами Бельгии, американцы вывезли с ее территории более тысячи тонн урановой руды, а из Норвегии получили весь запас тяжелой воды ‑ 185 килограмм. Немцам пришлось начинать ее накопление с нуля. В 1941 году из секретных лабораторий военно‑промышленного концерна «Сименс» доложили руководству Германии об успехах в очистке графита для использования его в качестве замедлителя нейтронов в реакторе в условиях отсутствия или малого количества тяжелой воды. Это могло пригодится в последующем. 6 декабря 1940 года Гейзенберг пишет в отдел вооружений сухопутных войск докладную записку: «Возможность технического использования энергии, получаемой при расщеплении урана». Он приводит данные об уменьшении размера «урановой машины» (реактора) при использовании урана-235 и, главное, указывает на практическую возможность создать взрывные вещества, мощь которых в тысячу раз превзойдет мощь уже известных взрывчатых веществ. Позже Гейзенберг писал: «В сентябре 1941 года мы увидели открывшийся перед нами путь. Он вел нас к атомной бомбе».[43] И это уже были не теоретические расчеты, не отдельные эксперименты, а очень возможная и достаточно близкая реальность». Немецким ученым-физикам оставалось сделать следующий шаг ‑ перейти от лабораторных установок к промышленным, построить заводы по разделению изотопов урана, запустить не экспериментальные, а полноценные реакторы, на которых шло бы обогащение урана-235 и получение плутония. Требовалось только время – два-три года без войны. Тем более, что ядерные исследования взял под свое крыло черный орден СС. С атомной бомбой всемирный нацистский рейх вполне мог стать реальностью.
Знала ли советская разведка об этих зловещих военных проектах Германии: реактивном, ракетном и особенно атомном? Да. Обращала пристальное внимание и получала достаточно полную и информацию. Здесь надо вспомнить антифашиста Вилли Лемана (псевдоним «Брайтенбах»), который вступил в нацистскую партию еще до прихода ее к власти, в 1933 году, стал видным сотрудником гестапо, занимался контрразведывательным обеспечением военных предприятий Германии, а затем был ответственным за военно‑технический архив рейха, где хранились документы о всех ведущихся разработках для Вермахта и создании перспективных систем оружия. Он по своим убеждениям был стопроцентным немецким националистом, по политическим взглядам ‑ монархистом и сторонником сильной Германии. Ни он сам, ни его родственники или друзья никогда не являлись коммунистами, социал-демократами или левыми, никогда им не сочувствовали и не помогали. Однако В. Леман был не на словах, а на деле патриотом Германии, гуманистом, не одобрял в душе преследований людей, а тем более их убийства по расовым, национальным, религиозным отличиям. Он всегда помнил слова канцлера Германии О. Бисмарка, который завещал избегать войны с Россией, так как Германия только вместе с ней непобедима. Практика нацизма, бред о каком-то превосходстве «арийской расы» над другими народами, безудержное стремление к военной агрессии, подчинению и ограблению других государств не могли не вызывать у него протеста, и он стал антифашистом. К таким немцам, как Леман, вполне относятся слова И.В. Сталина, сказанные 7 ноября 1941 года, когда войска Вермахта стояли вблизи Москвы, о том, что «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, государство германское были и будут». С советской разведкой, Леман стал сотрудничать с 1935 года. По некоторой информации он входил в группу «Яши», которую возглавлял Я. Серебрянский ‑ особой группы диверсий и разведки ОГПУ–НКВД СССР в 1929–1938 годах. Эта группа была при наркоме внутренних дел, непосредственно находилась в его подчинении и глубоко законспирированная.
Группа «Яши» создала мощную агентурную сеть в 20–30-х годах в Германии и ряде других стран. В конце 30-х годов она состояла из двадцати оперативных работников и около шестидесяти нелегалов. Один из руководителей зарубежной разведки НКВД СССР Судоплатов в своей книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930‑1950 годы» пишет: «Леман был сотрудником гестапо и снабжал нас исключительно важной информацией». Его информация всегда охватывала широкий вопросов ‑ от внешней политики Германии до ее милитаризации, разработки новых видов вооружений и чисто разведывательных и контрразведывательных вопросов.
В. Леман действовал до августа 1942 года, когда его выдал на допросах в гестапо А. Барт, агент-парашютист, заброшенный 5 августа 1942 года в Германию. В. Лемана арестовали на улице и тайно, без суда, казнили. Он был единственный видный офицер гестапо, который сотрудничал с советской разведкой. Не исключено, что руководство гестапо боялось доложить об этом Гитлеру. После войны Барта, завербованного гестапо, судили в Москве и расстреляли за измену.[44] В. Леман был наиболее информированным из советских разведчиков. Высокое положение В. Лемана именно в том отделе гестапо, которое отвечало за контрразведывательное обеспечение военно-промышленного комплекса и военного руководства Германии, не говоря уже о его широких дружеских связях в Абвере, в том числе и в контрразведке Абвера. Но он не единственный, кто сообщал в Москву сведения об интересе немцев к атомной энергии. Уже в августе 1939 года в Берлин посылают сотрудника военной разведки Н.М. Зайцева с задачей восстановить потерянные контакты с И. Штебе (псевдоним «Альта») ‑ нелегальным резидентом разведывательного управления в Берлине. Н.М. Зайцев вспоминает, что когда была налажена связь с ней, а она связалась с другими немецкими разведчиками, работавшими на нас (после начала Второй мировой войны), к нам потекла информация о военной промышленности, технике и даже о состоянии разработки атомной энергии. И. Штебе была арестована гестапо в сентябре 1942 года и казнена по личному распоряжению Гитлера в декабре 1942 года. Несмотря на долгие зверские пытки она никого, кто был связан с ней, не выдала.[45]
В Москве получали сведения и из других источников. Еще в 1940 году начальник отделения научно-технической разведки НКВД СССР Л.С. Квасников, направил ориентировку резидентам в странах Скандинавии, Германии, Англии и США, обязав их собрать всю информацию по разработке «сверхоружия» ‑ урановой бомбы. Весной 1941 года резидент советской разведки в США Г.П. Овакимян (псевдоним «Геннадий») сообщил в Москву, что работам по урану в США уделяется существенное внимание, и что научная общественность США имеет информацию от немецких ученых-физиков, спасшихся в Америке, Англии и Швеции от фашизма, о работах в Германии ученых-физиков с ураном, и опасается, что Гитлер прилагает серьезные усилия по созданию «урановой бомбы».[46]
Особо следует остановиться на судьбе известного немецкого физика Ф. Хоустерманса, человека левых убеждений. Спасаясь от преследований нацистов, он в 1933 году попал в СССР, где несколько лет работал в Украинском физико-техническом институте в Харькове. В конце 1937 года его арестовали, как «подозрительного иностранца». В защиту Хоустерманса выступили физики мирового уровня ‑ Бор, Эйнштейн, Жолио-Кюри. Находясь в заключении, он дал согласие на сотрудничество с органами НКВД после своего возвращения в Германию. В апреле 1940 года Хоустерманс решением Особого совещания НКВД был выслан из СССР в Германию, где его, как сочувствующего коммунистам, немедленно арестовало гестапо. Тем не менее, по ходатайству немецких физиков, он вскоре был выпущен из тюрьмы и включился в научную работу в Германии. Возможно, высылка его в Германию была хорошо срежиссированным «спектаклем» НКВД по внедрению агента в среду физиков рейха. Безусловно, за ним внимательно наблюдала гитлеровская контрразведка. Разумеется, что сам Хоустерманс никаких антинацистских взглядов не высказывал и вряд ли сам занимался сбором и передачей сверхсекретных данных в пользу СССР о немецких работах, связанных с атомным проектом нацистов, но, почти наверняка, рядом с ним работал советский разведчик, которому Хоустерманс давал возможность получать необходимые сведения и передавать их в Москву. Хоустерманс добился доверия со стороны гитлеровского руководства атомным проектом, когда первым из немецких ученых подробно описал цепную реакцию под действием быстрых нейтронов, а также рассчитал критическую массу урана-235, то есть наименьшую массу, при которой может протекать самоподдерживающаяся ядерная реакция.
В первую очередь его интересовал элемент, позже названный плутонием. Используя его, говорил физик, можно создать новое мощное взрывчатое вещество. Дело лишь за химиками. Нужно продумать, как отделить этот 94-й элемент (плутоний) от урана. То есть Хоустерманс показал нацистам «блестящую игрушку» с большим эффектом, но как этого добиться не указал, переадресовав вопрос химикам и пока не существующей технологии отделения плутония от урана. Предложил Хаоустерменс и схему атомного реактора на уране-238, который мог бы стать машиной для преобразования элементов нептуния (элемент № 93) в новый элемент № 94 ‑ плутоний. Но все это было в теории. На практике успехи немецких физиков были куда скромнее ‑ очень дорого, мало изучено, гарантий положительного результата нет. Поворот в судьбе Хоустерманса и его научные исследования привели, в конечном счете, к резкой активизации всех работ по созданию атомного оружия в США и Англии, которые имели для этого и финансовые, и технические возможности, и мощную промышленную базу. В 1941 году они могли стать противовесом плану гитлеровцев по созданию атомной бомбы. О его реальной антифашистской позиции свидетельствует факт, что Хаустерманс поручил своему доверенному лицу Ф. Райхе, уехавшему из нацистской Германии в начале 1941 года, проинформировать выдающихся физиков США и Англии о фактическом начале работ в Германии над атомным оружием. В апреле 1941 года резидент советской разведки в США также сообщил НКВД о встрече этого беженца из нацистской Германии с виднейшими физиками западного мира, находившимся в США, в которой обсуждалось громадное потенциальное военное значение урановой проблемы. Однако в СССР накануне войны этим материалам не придавали существенного значения.[47]
Несомненно, Сталин знал от внешней разведки НКВД, разведывательного управления Генштаба Красной Армии, и других источников информации, о реактивном, ракетном и атомном проектах нацистской Германии. Его информация всегда охватывала очень широкий круг вопросов ‑ от проблем внешней политики, новых видов вооружений до чисто разведывательных и контрразведывательных вопросов. Если не все детально, то в основном и точно. И перед ним встала очень острая и страшная дилемма: Что делать? Как поступить в данной конкретной историко-стратегической ситуации? Стоял вопрос о выживании или поражении государства ‑ Советского Союза, его 200 миллионного многонационального советского народа, о судьбе советской власти и справедливых идей социального и национального равенства. Эти вопросы полностью касались всех союзных и автономных республик, включая Белоруссию, в то время называвшейся Белорусской Советской Социалистической Республикой (БССР). Народы и национальности или будут порабощены и, в конечном счете, физически уничтожены, или дадут отпор и полностью разгромят врага ‑ гитлеровскую Германию и ее союзников. Каких бы людских жертв и материальных потерь это ни потребовало. Жизненно необходим был союз с США и Англией и создание антигитлеровской коалиции, как бы сложно и трудно не было. Вопрос принципиальный ‑ или вместе с СССР против нацистской Германии и военно-политический разгром претендента на мировое господство, или с Гитлером против СССР, стремясь за его счет решить межимпериалистические противоречия, в корне задушить социальный прогресс и борьбу за справедливое устройство народов планеты, надеясь на новый раздел мира, а в будущем, за помощь в войне против СССР, когда-либо и что-либо получить от нацистов. Решить этот принципиальный вопрос надо было в ближайшее время, отложить его, посмотреть, что будет происходить и тогда уже, так или иначе реагировать на ситуацию, было невозможно. Обладая достаточно полной информацией об успехах нацистов в разработке новейших видов вооружения ‑ реактивных самолетов, баллистических и крылатых ракет, атомных реакторов и ядерной взрывчатки, Сталин не мог позволить им завершить через два-три года эти разработки и поставить их в серийное производство. Иначе реактивно-ракетная атомная война. Преимущество, и количественное, и качественное, будет на стороне стран «оси»: Берлин‑Рим‑Токио. СССР не был еще достаточно развит в научно-техническом плане, чтобы на равных соревноваться с нацистской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. На Англию и США надежд в данном плане было мало ‑ они безнадежно отставали, им нужны были годы, чтобы догнать Германию. Значит, надо все решать летом 1941 года, пока гитлеровцы проводят опытные, конструкторские, экспериментальные разработки и не могут их применить, не могут пока наладить их массовое производство. А потенциал и научный, и промышленный у Германии был.
Ведя войну на два фронта, терпя, в основном, поражения на Восточном фронте, у себя в Германии немцы под градом бомб с тысяч американских и английских бомбардировщиков смогли выпустить около 20 тысяч крылатых ракет ФАУ-1 и 6 тысяч 103 баллистических ракет ФАУ-2. Дальность полета ФАУ-1 за 1944 ‑ весну 1945 года конструкторы увеличили до 320 километров, а ФАУ-2 ‑ до 350 километров. Значительно продвинулись и в атомном проекте. В марте, по некоторым данным, немцы произвели два испытания ядерного, правда, маломощного оружия. В апреле 1945 года заработал реальный атомный реактор. Нацисты разрабатывали также межконтинентальную ракету А-9/А-10, с дальностью полета пять тысяч километров, проводили опытные работы по оснащению ФАУ-2 ядерной боеголовкой, смогли выпустить несколько сот реактивных бомбардировщиков различных моделей.[48]
Германии не хватило только времени ‑ Красная Армия вместе с войсками союзников сломали хребет нацистскому зверю в начале мая 1945 года и не допустили общепланетарной катастрофы, где могли погибнуть не 60 миллионов человек (за все время Второй Мировой войны), а сотни миллионов.
Какие действия в июне 1941 года нужно было предпринять советскому руководству? Нанести первыми превентивный удар по вермахту? Нельзя! СССР тогда воспримется США, Англией и другими странами в качестве агрессора, и явно становится в проигрышную ситуацию, ввязываясь в войну на два фронта: на Западе и на Востоке, лишается возможности создания антигитлеровской коалиции с США и Англией. А ведь только объединив потенциалы экономик, промышленности, сельского хозяйства, военных сил можно было остановить и затем разгромить фашистский блок. А если привести Красную Армию в полную боевую готовность, развернуть войска в глубине территории страны, как предлагал Шапошников, дать ясно понять нацистскому руководству Германии, что его планы против СССР хорошо известны и внезапного удара Вермахта не получится? Таким образом дать Германии возможность, если Гитлер отложит на некоторое время нападение на СССР, завершить новейшие, прорывные программы вооружения и через 2-3 года получить ту же ситуацию, только в худшем варианте? И как себя поведут при таком раскладе ситуации правящие круги Англии и США, никто предсказать не может. Не исключено и их объединение с гитлеровской Германией как более мощной стороной, против СССР. Тогда итог для нас отрицательный.
Какой выход из этой очень плохой ситуации видит и просчитывает Сталин в своем плане? Контрудар по вторгшимся войскам Вермахта, победа в приграничных сражениях и перенос военных действий, пусть не сразу, на территорию противника? Вряд ли получится, как хотелось и пропагандировалось малой кровью, быстро, с поддержкой трудящихся угнетенных и эксплуатируемых классов и народов, оккупированных гитлеровцами стран. Да, возможно придется в начале войны немного отступить, на несколько десятков и даже сотню километров, возможны значительные разрушения и человеческие жертвы, но все это ненадолго, главное выдержать первый удар и дождаться по линии фронта подхода резервов и тогда перейти в наступление. Выигрыш получаем двойной. Во-первых, не мы начали войну, мы только обороняемся, значит, антигитлеровская коалиция будет быстро создана. Во-вторых, не будут потеряны главные промышленные и сельскохозяйственные районы, не будет падения выпуска военной продукции и миллионов эвакуированных. Железнодорожный транспорт, как и автомобильный, будет работать в целом нормально, обеспечивая подвоз дивизий, танков, артиллерии, топлива, боеприпасов, сырья, промышленных изделий, что, в свою очередь, во многом гарантирует успех контрудара.
Есть ли факты, которые подтверждают гипотезу о сталинском плане контрудара? Да, есть, и они сейчас достаточно известны. Вот некоторые из них. В статье маршала А.М. Василевского, дважды Героя Советского Союза, начальника Генерального штаба Красной Армии с июня 1942 года, а с октября 1942 года заместителя наркома обороны СССР, пролежавшей в архивном забытьи 27 лет, и опубликованной только в 1992 году, ясно и четко написано: «Оперативный план войны против Германии существовал, и он был отработан не только в Генеральном штабе, но и детализирован командующими войсками и штабами западных приграничных военных округов Советского Союза». Бывший начальник оперативного управления штаба Юго‑Западного фронта (Украина) генерал-майор М.Д. Грецов писал: «Конечно же, были разработаны подробные планы и указания, что делать в день «Ч», то есть в день объявления мобилизации… и, наконец, в сейфах штаба хранились знаменитые пакеты с планом прикрытия, в которых точно было расписано, когда и куда двигаться войскам. Все эти планы были». В них предусматривалось временная оборона границы для обеспечения сосредоточения и развертывания, то есть для подготовки войск к наступлению. В учебном пособии генерал-полковника С.П. Иванова для слушателей академии Генштаба написано: «Таким образом, немецко-фашистскому командованию, в последние две недели перед войной, удалось упредить наши войска в завершении развертывания и тем самым создать благоприятные условия для захвата стратегической инициативы в начале войны». К этим высказываниям, компетентных и очень информированных людей, вряд ли нужны комментарии.[49]
Но планы планами, а как обстояло дело с воплощением их в жизнь? Мы уже писали о переброске пяти армий, а это десятки дивизий, из внутренних районов СССР к западным границам, где они должны были сосредоточиться в середине июля 1941 года.
Не сидели «сложа руки» командование и штабы приграничных западных военных округов, перебрасывались поближе к границе, ряд дивизий расположенные восточнее. Например, в ЗапОВО (Белоруссия) из внутренних районов округа в соответствии с руководящей директивой незадолго до войны на запад начали выдвигаться десять дивизий. Часть дивизий должна была войти в состав третьей армии чтобы прикрыть стык между третьей и одиннадцатой армиями, то есть между Западным и Прибалтийским особыми военными округами. А стык не был еще оборудован в инженерном отношении. На территории ЗапОВО шло формирование новых частей Красной Армии. Так, в Красном Урочище, в то время окраина Минска, формировалась 26-я танковая дивизия создававшегося с марта 1941 года 20-го механизированного корпуса. Передислоцировались войска к наиболее уязвимым местам, в первую очередь прикрывался Минск ‑ политический, административный, промышленный и транспортный центр Белоруссии. Война застала две стрелковые дивизии (64-ю и 108-ю) во время переброски по железной дороге от Вязьмы и Смоленска в район Жданович. Еще одна, 161-я дивизия, двигалась от Могилева в район Уручья, к месту сосредоточения. Приказ об их переброске был отдан командующим ЗапОВО 15 июня 1941 года.[50]
Так что, оборонная направленность, стягиваемых войск, не вызывает сомнения.
Но заботились не только об обороне, но и о создании условий для последующего контрудара. Выдающийся полководец советских войск, маршал К.К. Рокоссовский, с ноября 1940 года командир 9-го механизированного корпуса, дважды Герой Советского Союза, отмечал: «Судя по сосредоточению нашей авиации на передовых аэродромах и расположению складов центрального значения в прифронтовой полосе, это походило на подготовку к прыжку вперед, а мероприятия, проводимые в войсках, этому не соответствовали».
Это мнение маршала ясно показывает, что войска не готовились к нападению, а авиация собирала силы, чтобы в случае войны нанести удар возмездия. О подготовке и недостатках аэродромов для действия по захвату авиацией господства в воздухе, за два дня до начала войны писал Сталину первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии: «Кроме аэродромов, строящихся НКВД, нами развернуты работы по строительству 39 аэродромов и сейчас уже приступаем к строительству 34 аэродромов. Опасение вызывает состояние существующих оперативных аэродромов в восточных областях Белорусской ССР и Смоленской области. 64 старых аэродрома не рассчитаны на современные типы машин. В нынешнем состоянии они не обеспечивают базирования современной авиации, и их реконструкция, поэтому, является совершенно необходимой. Кроме того, количество аэродромов в Смоленской области явно недостаточно. Необходимо строительство новых десяти оперативных аэродромов… Эти мероприятия, в дополнение к осуществляемым уже нами, разрешат вопрос базирования авиации».
Такие действия в Белоруссии по строительству и реконструкции значительного количества аэродромов прямо перекликаются с докладом начальника Главного Управления ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта П.В. Рычагова в декабре 1940 года высшему командному составу на совещании в Кремле. В нем указывалось, что базирование огромного числа самолетов требует хорошо развитой сети аэродромов. «На каждом аэродроме в среднем будет находиться только 25 самолетов». Важные положения на этом совещании высказал командующий ВВС Прибалтийского военного округа Г.П. Кравченко: «Если наземные части прикрываются развитым сильным укреплением района, то авиация может прикрываться только развитой сетью аэродромов». Он же сделал очень важное замечание из опыта предшествующих военных конфликтов с участием СССР: «Я считаю, что соотношение между потерями на аэродромах и в воздухе будет такое: «В частности, на Халхин-голе у меня было так: одну восьмую часть я уничтожил на земле и семь восьмых в воздухе… поэтому надо ориентироваться на это и готовиться в основном к сражению в воздухе». Опыт войны его правоту подтвердил. Потери советских ВВС в июне 1941 года составил примерно ту же пропорцию, о которой говорил Кравченко. Решающие бои за господство произошли в воздушных сражениях. Очень жаль, что мало кто из участников совещания в Кремле услышал и правильно восприняло руководителей авиации.[51] Об обстановке в западных приграничных округах перед 22 июня вспоминает и В.М. Молотов, ближайший в течении многих лет соратник Сталина: «Что не знали, неправда. Ведь Кирпонос (командующий Киевским особым военным округом) и Кузнецов (командующий Прибалтийским военным округом) привели войска в готовность, а Павлов(командующий ЗапОВО) ‑ нет. Военные, как всегда, оказывались шляпы». Никакого доверия Гитлеру не было и что Гитлер нападет 22 июня, учитывали. Правительство СССР отдало приказ о приведении войск в боевую готовность накануне войны. Кирпонос и Кузнецов за неделю до начала войны начали выводить свои войска на оборонительные позиции, чтобы встретить удар немцев, а Павлов свои войска не то что на оборонительные позиции, а даже в летние лагеря не вывел».[52]
Не исключено, что такое отношение и такие действия командующего ЗапОВО Павлова и начальника штаба округа Климовских были далеко не случайны. Можно допустить, что здесь проявился след тухачевско-троцкистского военного заговора в Красной Армии, разгромленного в 1937 году, ставившего своей целью обеспечение поражения советских войск в случае войны с нацистской Германией захват власти в Москве на волне военных поражений и раздела страны. Так, в книге бывшего полковника Т. Токаева «Товарищ Х» изданной в Лондоне в 1956 году, содержится признание, что в 30-е годы в СССР действительно существовала подпольная антигосударственная организация из числа военных, которая имела связи с заговором М.Н. Тухачевского, но в целом, за отдельными исключениями, не пострадала в 1937–1938 годах. Ее с 1934 года возглавлял некий высокопоставленный военный, являвшийся членом ЦК партии. Эта тайная организация действительно планировала государственный переворот. Но опасалась яростного и беспощадного отпора Сталина и его соратников. Воздерживалась от конкретных действий по организации переворота, однако не оставила попыток саботажа и вредительства накануне и в начале войны».
Учитывая сказанное, можно предположить, что отдельные руководители ЗапОВО были связаны с этой организацией. Надо учитывать и то, что еще в апреле 1936 года Тухачевский и его ближайшие соратники И.С. Якир и И.П. Уборевич разработали и проверили на стратегических командно – штабных играх различные варианты «Плана поражения СССР в войне с Германией». Они хотели проиграть начало войны в рамках стратегии блицкрига и концепции внезапного нападения всеми заранее развернутыми силами Германии. Этот план был тайно передан Тухачевским высшему немецкому военному командованию. Германские генералы, используя эту и другую информацию, сделали ставку на разгром Красной Армии в приграничных сражениях. Прежде всего, в результате особо мощного удара по центру советской обороны, то есть на белорусском направлении, планировали взять Минск на пятый день войны. Руководители Вермахта уже тогда задумывали наиболее сильный удар левым крылом, что неминуемо привело бы к фактическому поражению правофланговых сил советских армий, которые и олицетворял в то время Белорусский военный округ. В ходе стратегической штабной игры в Москве Уборевич (играл за «красных») получил мощный удар главными силами «синих» как раз на минском направлении. Апрельские игры на картах Тухачевский проводил, уже зная требования немецких генералов по организации поражения. Аналогичное, разыгранному на штабных картах, произойдет, но уже во фронтовой обстановке, летом 1941 года. Причем советские войска были расположены именно так, как за пять лет до этого планировал Тухачевский, имея в виду организацию разгрома Красной Армии. Тухачевского и его присных разоблачили, судили и расстреляли, но их пораженческие военные планы продолжали осуществляться, хотя и другими военачальниками, с другими фамилиями.
Реальность пораженческих разработок и проведение штабных игр подтвердили трагические события лета 1941 года в Белоруссии. Страшный разгром первого эшелона советских войск, захват гитлеровцами Минска на седьмой день войны, десятки тысяч погибших и раненых советских воинов, сотни тысяч попавших в плен. Полная оккупация фашистами Белоруссии к концу августа 1941 года. Причин такого поражения было несколько, но одна из них – предательство и измена Тухачевского и других заговорщиков еще до войны. Так что «шляпами» ли были некоторые советские генералы или предателями, это другой вопрос, к которому мы еще подойдем. То, что мощнейший удар Вермахта не смогли сдержать в Киевском и Прибалтийском военных округах ‑ это горькая правда. Но нужно отметить, что темпы продвижения групп армий Вермахта «Юг» и «Север» значительно уступали запланированным немецким командованием, так как им наши войска, будучи даже не полностью подготовленными, оказывали упорное сопротивление, чего немцы никак не ожидали. На западном же, основном направлении, которое прикрывал ЗапОВО, гитлеровцы уже 16 июля ворвались в Смоленск.
Что могло помешать, и действительно помешало, очень неплохо задуманной и достаточно полно реализовывавшейся стратегии контрудара в июне 1941 года? В первую очередь, это инерция мышления и ошибочные представления о начале будущей войны у многих военных и политических руководителей СССР. Это была не их вина, а их беда – людей, которые помнили и внимательно изучали опыт Первой Мировой и Гражданской войн, но неясно и нечетко представляли войну грядущую. Считали, что будет какой-то предвоенный период, дней 7–10, пока будет обеими сторонами конфликта объявлена и проведена мобилизация, затем начнут действовать относительно небольшие части войск, разведывая и уточняя силы противника. Развертываются десятки дивизий, выдвигаются заранее неприемлемые требования, и только затем вступление в дело основных сил противостоящих армий, как-то было в самом начале Первой Мировой войны. Были уверены, что у Красной Армии будут несколько дней для вывода войск в районы обороны, для выдачи и приведения в боевую готовность оружия, боевой техники, боеприпасов, подвоза горючего. Рассчитывали, что основные бои пока будут проходить в воздухе. Никто не предполагал и не готовился к отражению сильного и быстрого удара танковых и мотомеханизированных соединений врага, вторжения сразу огромных сил противника. Опыт боевых действий Вермахта весной-летом 1940 года и весной 1941 года плохо изучался и мало анализировался. Преувеличивались свои силы и недооценивались силы Вермахта. Дилетантски рассуждали: «Малой кровью, сокрушительным ударом, по чужой территории, быстро!». Во многих случаях у командиров, политработников и бойцов Красной Армии царили шапкозакидательские настроения. Что требовалось от военнослужащих? «Не поддаваться на вражеские провокации», «Когда нужно будет ‑ нас вовремя предупредят, и мы всей силой ударим по агрессору!». После начала войны отрезвление стало мучительным и горьким.
Если смотреть на канун войны с чисто военных позиций, то вывод таков: Во-первых, это нереальность планов прикрытия границы в случае начала войны. Так, в плане 4-й армии, которая должна прикрывать основное направление Брест‑Барановичи‑Минск были задействованы в прикрытии границы дивизии и корпуса, которые только начали формироваться, и существовали, по сути, только на бумаге. Это отмечал начальник штаба 4-й армии полковник М.М. Сандалов. Но может это происходило только у них? Не только! Командир 85-й стрелковой дивизии, входившей в состав 3-й армии, генерал-майор А.В. Бондовский, вспоминает, что план прикрытия его дивизией был настолько засекречен, что его реализовать на практике было невозможно. План не знали даже командиры полков. Таким образом, сверхсекретность в военных делах тоже может быть очень вредной. В штабе ЗапОВО к разработке плана прикрытия в полном объеме допускались только четыре человека: командующий, член Военного Совета, начальник штаба и начальник оперативного отдела штаба. В число разработчиков плана не вошли командующие армиями, корпусами, дивизиями. Планы были, о них отчитывались в Москву, но о них в войсках практически никто не знал. В тех округах, где планы разрабатывались в некоторых армиях, они были ни четко и полно сформулированы, ни доведены до командования войск. Об этом написал генерал П.И. Ляпин, бывший начальник штаба 10-й армии ЗапОВО: «План обороны границы 1941 года мы неоднократно переделывали с января до самого начала войны, да так и не закончили». А ведь это была самая сильная армия по своей ударной мощи (19 дивизий, в том числе два механизированных корпуса), которая находилась в Белостокском выступе и при контрударе должна была наступать на Варшаву. А как с разработкой плана обстояло дело на уровне корпуса? Генерал В.С. Попов, бывший командир 28-го стрелкового корпуса, 4-й армии, отмечает: «План обороны государственной границы до меня, как командира корпуса, доведен не был». Так что о том, что война скоро будет, командиры знали, и что надо оборонять границу, тоже знали. Войска подтягивали, но реально доведенных до частей и соединений планов боевых действий или не было, или если и были, то жутко засекречены -и от врагов, и своих в первую очередь.[53]
Во-вторых, сильно мешали ошибки, а может и преднамеренные действия кое-кого. Штаб ЗапОВО обозначил пять самых важных направлений прикрытия границы. На практике оказалось, что из пяти только одно направление (Брест‑Барановичи) было обозначено штабом округа правильно. На других направлениях немцы или вообще не наступали, или наносили второстепенные удары, которые не имели важного оперативного значения. Фланги 10-й армии прикрывали две малосильные армии: у Бреста 4-я, имевшая в своем составе 4-е стрелковых и две танковые дивизии, у Гродно 3-я армия, состоявшая из 3-х стрелковых и одной танковой дивизий. А именно по флангам наносили главные удары войска группы армий «Центр».
У планов действий наших сил был один, но очень существенный недостаток. Они предусмотрели, как будут действовать советские войска, а как будет действовать противник ‑ не предусмотрели. В оперативном плане штаба ЗапОВО по прикрытию границы 1941 года даже не упоминаются фланговые группировки немецких войск в районах Бреста и Сувалок. Чувствуется определенная недоработка предвоенных оперативных планов штаба округа, отрыв их от реального положения. Как будто противник должен был действовать, как нам хочется, а не как ему удобно. Этот план не исходил из угрозы войны, которая была от факта сосредоточения крупных немецких сил на западной границе БССР. На внезапное нападение этот план рассчитан не был. Он был рассчитан только на один вариант действия ‑ отбить первые удары врага и перейти в наступление. Конкретных вариантов боевых действий, в случае вынужденного отхода, план прикрытия не содержал. Можно было бы возразить, что, мол, не знали о конкретном сосредоточении войск Вермахта, если бы не схема оперативного развертывания ЗапОВО на плане прикрытия государственной границы. На ней четко обозначены силы немецкой стороны в июне в приграничной полосе ‑ до дивизии, включительно. Командование ЗапОВО владело необходимой информацией о противнике, на основе которой можно и нужно было определить боевые возможности пограничных группировок и направления их ударов. Но ничего не было сделано. Что это? Непрофессионализм, глупость, помноженные на лень, или что-то хуже? В западном округе ударным группировкам танковых и механизированных соединений Гудериана и Гота противостояло только по одной дивизии. На некоторых участках на север и юг от Бреста вообще не было советских войск.[54]
Неудивительно, что при таком положении вещей, оборона границы рухнула в первый же день войны. Дело было не только в могучем первом ударе Вермахта, но и в крайне неудачном размещении наших войск, и в отсутствии хорошо продуманного и четко запланированного противодействия врагу частей и соединений Красной Армии в приграничных районах. Такова была вторая причина, которая мешала осуществлению Сталинской идеи контрудара. В-третьих, большой трудностью для Красной Армии в организации и проведении планируемого на лето 1941 года контрудара были значительные недостатки в танковых и авиационных войсках, которые должны были стать ударной силой, как в остановке вторжения агрессора, так и в переходе потом в фазу наступательных действий. Одна пехота, даже с артиллерией, мало что могла сделать в эпоху господства моторов. Основные наши танки (к 22 июня ‑ БТ разных модификаций, и Т-26), их насчитывалось десять тысяч, являлись уже устаревшими, с тонкой броней, защищавшей только от осколков и малокалиберной артиллерии, с бензиновыми двигателями, которые очень быстро и сильно горели при попадании снарядов противотанковых пушек и танковых орудий противника. У них были узкие гусеницы, что затрудняло передвижение по бездорожью, малый моторный ресурс ‑ всего 70–100 моторных часов, довольно слабая пушка калибром в 45 миллиметров. Эти танки могли успешно воевать с немецкими танками Т-1 и Т-2, которые уступали им в вооружении, но очень трудно было бороться с более сильными Т-3 и Т-4. Новые наши танки, выпускаемые только с 1940 года, составляли к июню 1941 года менее 20 процентов от общего числа танков Красной Армии. Они превосходили все немецкие танки этого периода. Танк Т-34 являлся лучшим средним танком в мире в 1941‑1942 годах, а КВ-1 и КВ-2 были тяжелыми танками с самой мощной броней, каких у Вермахта до лета 1943 года вообще не было. Наши новые танки хотя и были лучшими, но они тоже имели свои недостатки: у Т-34 был плохой обзор, отсутствовали рации (были только у командира роты, да и то не у всех), связь и команды в 1941 году осуществлялись при помощи флажков, что резко увеличивало потери танкистов убитыми и ранеными, да и разглядеть из танка команды флажками в ходе боя в дыму, пыли и разрывах снарядов и мин, а то и под ударами авиации противника, было практически невозможно. Кроме того, результативный огонь Т-34 против танков врага и противотанковой артиллерии являлся, в основном, со средних и малых дистанций и значительно хуже, с дальних. У КВ часто выходила из строя трансмиссия, и танк надолго останавливался, плохим был и прицел. В ЗапОВО насчитывалось всего 483 КВ и Т-34.
Качество производства, сборки и эксплуатации танков были невысокими. На 22 июня советские войска располагали на западе СССР 14,2 тысячами танков, но 29 процентов из них находились в капитальном ремонте в заводских условиях и 44 процента танков в среднем, на базе ремонтных мастерских округов. Примерно, такая же пропорция была и в ЗапОВО. Боеспособными в приграничных округах оказались только 3,8 тысяч танков, что по численности соответствовало танковому парку армии вторжения в СССР Вермахта. Так что никакого численного превосходства перед советскими войсками Вермахт в танках не имел на первый день войны. В ЗапОВО насчитывалось 2136 танков против примерно 2000 танков группы армий «Центр».[55]
Существенное различие было, не в нашу пользу, в подготовке экипажей танков, в первую очередь в стрельбе. Если наш экипаж танка в среднем делал пять выстрелов из пушки за год, то немецкий сорок выстрелов. Разница в опыте и навыках стрельбы приводила и к разной степени попаданий по целям. Это же касается и механизированных средств передвижения для пехоты и артиллерии, подвоза боеприпасов, горючего. В ЗапОВО это составляло в среднем 51 процент, от требуемого по штату дивизии военного времени по автомашинам, и 84 процента ‑ по тягачам и тракторам. Остальные должны были прибыть в части после объявления мобилизации. Гитлеровские же войска к началу вторжения в СССР были полностью оснащены автомобилями и тягачами, что давало вермахту значительное преимущество в скорости продвижения и маневренности.
Особо тяжелое положение сложилось в танковых дивизиях ЗапОВО, что не могло не сказаться на их боеспособности. По имеющимся данным, 33-я танковая дивизия на 18 июня 1941 года имела обеспеченность: по бензозаправкам ‑ 7 процентов от требуемого количества; по водо- и маслозаправщикам ‑ 9 процентов; по бензину первой категории (для танков) ‑ 15 процентов. По боеприпасам ситуация была еще плачевнее. В наличии имелось всего несколько десятков снарядов на одно орудие ‑ около 3 процентов выстрелов. Катастрофическое положение было и с дизельным топливом, необходимом танкам Т-34 и КВ. Его в наличии часто не было вообще. Танки были, а выехать из боксов они не могли. Такое положение существовало в большей части танковых дивизий ЗапОВО, а их было двенадцать. На бумаге же все было в порядке.[56]
Очковтирательство, выдача желаемого за действительное, замазывание недостатков, красивая и своевременная отчетность были и в 1941 году. Бюрократы наверху, в погонах и без них, больше верили различным бумагам, чем острым и нелицеприятным докладам непосредственно с мест. И вал приписок докатился и до Кремля, наркомата обороны, Генерального штаба. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить», ‑ гласит народная мудрость. Исправлять такое положение пришлось долго кровью бойцов и командиров в годы войны.
Очень похожая картина была и в авиации. Самолетов много. Перед войной ВВС Красной Армии располагали 20 тысячами самолетов всех типов и разных лет выпуска. Из них семь тысяч находились в приграничных округах. Самолеты старых марок были в большом количестве и значительно уступали по скорости, по маневренности, и по высотности новым немецким самолетам. В 1940 году в СССР начали производить самолеты современных типов, и за полтора года до войны их было выпущено около четырех тысяч, что составляло до двадцати процентов от общего количества самолетов. Но они мало или плохо были освоены летчиками, высока была аварийность, не хватало аэродромов новых типов с удлиненными полосами взлета и посадки. Очень мало было радиостанций на самолетах для связи и указания цели. Считалось, что хватит покачивания крыльями самолета или визуальных жестов командира звена или эскадрильи. А что делать, если самолет командира звена или эскадрильи сбит, или он ведет яростный и подвижный бой? Просматривается явная недооценка роли радиосвязи или даже пренебрежение ею. Аэродромы были плохо замаскированы, мало было зениток. Связь с постами ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь) была в основном проводная. Такая система ПВО не могла предотвратить мощный удар врага по самолетам на земле. Факты говорят: В ЗапОВО насчитывалось 1939 самолетов, а в группе армий «Центр», наступающей на Белоруссию, было 1670 самолетов. По видам самолетов на 22 июня округ имел на вооружении: 802 бомбардировщика, из них только 139 новых конструкций; 85 штурмовиков, из них только восемь новейших конструкций ИЛ‑2; 885 истребителей, из них только 253 новых; 154 разведчика и 13 корректировщика ‑ все старых конструкций, а поэтому через десять дней после начала войны не осталось в воздухе ни одного нашего разведчика и корректировщика ‑ все сбиты. Как воевать, если неизвестно, где и какие силы противника, если нет разведчиков, и кто будет корректировать и направлять огонь тяжелой артиллерии, если нет авиационного корректировщика? В группе же армий «Центр» Вермахта было 490 бомбардировщиков, включая и пикировщиков, на 312 меньше, чем в ЗапОВО. И кто и кого должен был бить, если исходить из количества самолетов? А штурмовиков у немцев вообще не было. Дело было не в количестве самолетов, и даже не в том старых или новых конструкций, а в качестве подготовки летного состава. В СССР летчика готовили один год, и всего давалось сто часов налета, зато каждый день по два часа политзанятий. Немцы же готовили летчика два года с тренировочным налетом 450 часов и только два часа в неделю на изучение «арийских догм» о превосходстве над другими народами и государствами. Отсюда и лучшая подготовка немецких летчиков, и многие их победа в воздушных боях в 1941‑1942 годах, отсюда и соотношение потерь ‑ пять советских самолетов на один немецкий летом 1941 года. Только в 1943 году, после Сталинграда, когда встал вопрос о выживании Третьего рейха, часы подготовки летчиков немцы снизили с 450 до 150, да и наша авиапромышленность развернула во всю мощь выпуск новейших самолетов в большом количестве, а наши летчики с кровью и потерями приобрели необходимый боевой опыт. Тогда пришли победы в воздухе.[57] Но пока до этого было далеко.
Шел июнь 1941 года. Девятая смешанная авиационная дивизия должна была прикрывать с воздуха 4-ю и 10-ю армии. Поэтому в ее состав входили истребительные, бомбардировочные и штурмовые полки. Ситуация в дивизии на 9 июня была такова: ранее дивизия для перевооружения получила 240 новых истребителей МИГ-1 и МИГ-3. В результате неумелых действий пилотов произошло 53 летных происшествий. Для 38 самолетов потребовался крупный ремонт. Свыше ста самолетов были временно непригодны к эксплуатации по выявленным дефектам завода производителя. И только 85–90 самолетов были исправны. Кроме того, из 240 новых самолетов пристреляны были пулеметы лишь на 132 (55%), да и из них 65–70 процентов пристреляны только на земле. Наряду с этим отмечались также недостатки: недостаточная мощность моторов после 8–10 часов налета, на взлете часто отказывали свечи зажигания в двигателе, нередки были перебои в работе мотора, сбавление мощности двигателя. Причины выяснялись, да так и не выяснили до 22 июня, и уже мало что можно было поправить до того рокового утра. В итоге, многие самолеты сгорели на аэродромах в результате удара немецкой авиации, мало кто из наших летчиков сумел подняться в воздух. Но, и поднявшись в воздух, не могли сражаться в полную силу из-за имевшихся дефектов. Многие были сбиты.
А как обстояло дело в 10-й смешанной авиадивизии, которая прикрывала Белосток, Гродно, третью и частично десятую армии? Положение было еще хуже, чем в 9-й смешанной авиадивизии. За два дня до войны в 123 истребительный полк из округа поступила команда демонтировать на самолетах вооружение, то есть снять пушки и пулеметы и сдать их на склад, Приказ озвучил командующий авиацией округа генерал И.И. Копец. В армии приказы исполняют, а не обсуждают и не спорят. Можно представить, как полк воевал 22 июня! И это еще не все! У двадцати новеньких истребителей ЯК-1, поступивших в полк 19 июня и по своим боевым качествам ни в чем не уступавшим истребителям люфтваффе Геринга, не было никакого движения. Почему?! Ведь обстановка накалена до предела, в ближайшее время может начаться война. Ответ прост. К этим истребителям не было ни горючего, ни боеприпасов.[58]
При такой постановке дела в боевой авиации в преддверии войны, при таком отношении к состоянию боеготовности не было ничего удивительного в том, что наши самолеты горели сотнями на аэродромах, не сумев даже взлететь, а летчики гибли под бомбами на земле. Что это ‑ полная некомпетентность, наплевательское отношение к службе, боязнь проявить инициативу, или даже задать вопрос? Или это срабатывала чья-то злая воля?
Попробуем высветить факты, которые многие годы игнорировались, и ответы, на которые надо искать в наглухо закрытых архивах НКВД‑НКГБ, наркомата обороны и Генштаба СССР. Мало что доступно и сегодня, но некоторая информация все же есть и дает возможность разобраться в истории. И то, что некоторые факты приводятся в художественной литературе, не должно мешать их анализу ‑ такое сегодня время, такие возможности ‑ хотя бы как-то обойти мертвое молчание и безразличие, чиновничий страх что-то не так или не там сказать, написать, не повторять в сотый раз давно, как бы известное и привычное. Отдельные факты мало что говорят, но вместе они совсем по-другому освещают события, и дают пищу для размышлений, и предположений. Так, очень странным является невыполнение директив Москвы по выводу из-под возможного удара войск и боевой техники командованием ЗапОВО в канун войны. Еще 18 июня, за четыре дня до начала войны, была направлена директива Генерального штаба ‑ вывести танковые корпуса с мест постоянной дислокации и замаскировать в лесных массивах. Поэтому удары врага по Прибалтийскому особому военному округу и Киевскому во многом пришлись по пустым военным городкам танкистов. До танковых корпусов ЗапОВО эта директива так и не дошла. Почему-то, еще до 19 июня командование западных приграничных округов получило директиву Генерального штаба с указанием к 22 июня вывести армейские и корпусные управления на полевые командные пункты. Командование 4-й армии эту директиву не выполнило по простой причине ‑ оно об этой директиве так и не узнало. От начальника ВВС 18 июня поступила директива ‑ к 23 июня рассредоточить и замаскировать материальную часть авиации. В ЗапОВО эта директива известна так и не стала.
Вспоминает Сандалов, начальник штаба 4-й армии: «Вывести хотя бы одну дивизию по боевой тревоге имеет право только командующий ЗапОВО. Мы хотели вывести из крепости (Брестской) в полевой лагерь 6-ю стрелковую дивизию, но начальник штаба генерал В.Е. Климовских воспретил лично, сказав, что палатки для размещения дивизии в лагере он выделять запрещает». Н.И. Эйтигон, ответственный работник НКВД‑НГКБ СССР, который за несколько дней до начала войны беседовал с Д.Г. Павловым, командующим ЗапОВО, доложил Судоплатову: «Павлов считал, что никаких особых проблем не возникает даже в случае, если врагу удастся в самом начале перехватить инициативу на границе, поскольку у него достаточно сил в резерве, чтобы противостоять любому крупному прорыву». А в это время дивизии второго эшелона войск округа были в 400–450 километрах от границы. Тринадцатая армия еще только формировалась и не была готова к боевым действиям. Павлов дезинформировал руководство НКВД–НКГБ о реальном положении дел, а когда 22 июня гитлеровские войска в двух местах прорвали наш фронт, то никаких резервов не оказалось, вплоть до Минска, и остановить дивизии Вермахта было некому. Кроме этого, Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для дезорганизации тыла противника, к чему начала готовиться госбезопасность, жаль только, что поздно. Не исключено, что такое отношение и такие действия командующего ЗапОВО Павлова и начальника штаба Климовских были далеко не случайны.
Интересные факты всплывают из опубликованных материалов допросов Павлова следователем после его ареста в начале июля 1941 года. Вопрос Павлову: «… а объясните тов. Павлов, как получилось, что директива Генерального штаба Красной Армии от 18 июня не была Вами выполнена? Ответ Павлова: «Ну по некоторым вопросам я ничего не могу сделать, и, вообще, я маленький человек … Следователь: «Ой, вот только не надо, генерал армии, командующий Особым военным округом… Ну, а вот как же так получилось, что, например, до 4-й армии, указанная мною директива, так и не дошла?». Павлов: «Коробков, (командующий 4-й армией) врет, нагло врет!» Следователь: «А Коробков утверждает, что никаких приказов о рассредоточении авиации и выводе 14-го мехкорпуса из мест дислокации не получал». Павлов: «Это гнусная ложь и провокация. Я не виноват, я делал все что мог»!
Но «шило в мешке не утаишь». Кто-то что-то видел, кто-то слышал, через кого-то передавались распоряжения руководства и при всей дисциплине и страхе наказания за оглашение секретной информации кое-что все же просачивалось. Среди военных ходили слухи, что поступивший незадолго до войны приказ о боевом развертывании войск не был им, Павловым, выполнен. Управление войсками было, практически, почти сразу утрачено.[59]
Как оценивать приводимые сведения? Было это пренебрежительное отношение к директивам высшего военного руководства страны и полный беспорядок в военных делах, или же стремление отдельных высокопоставленных военных начальников сместить Сталина и его окружение в Кремле, воспользовавшись поражением подставленных под разгром Вермахтом частей Красной Армии в приграничных округах. Как отмечает серьезный военный историк Мельтюхов в книге «Упущенный шанс Сталина» на странице 240, с 1930 по1941 годы в СССР имели место, по меньшей мере, три серьезные попытки государственного переворота. Причем с разными политическими ориентациями. Основными силами заговоров были, разумеется, госбезопасность (борьба внутри которой не прекращалась никогда), армия и партийная номенклатура. Многих не устраивала, слишком ярко выраженная, идея «мирового похода». Примечательно, что даже бериевские следователи не приписывали Павлову и другим, арестованным в начале июля, военным начальникам, ни скрытый троцкизм, ни работы на германскую разведку. Их обвиняли в том, что они …» вследствие своей трусости, бездействия и паникерства нанесли серьезный ущерб РККА (Рабочее Крестьянской Красной Армии), создали возможность прорыва фронта противником в одном из главных направлений и тем самым совершили преступление…». Эта цитата из приговора Военной коллегии Верховного Суда от 22 июля 1941 года, который приговорил всех их к расстрелу. Какие свои ошибки и упущения признал Павлов на суде как свою вину? Дадим ему слово: «… Еще в начале июня я отдал приказ о выводе частей из Бреста в лагеря. Коробков же моего приказа не выполнил, в результате чего три дивизии (из 6-и в 4-й армии) были разгромлены противником при выходе из города. Я признаю себя виновным в том, что директиву Генштаба РККА я понял по-своему и не ввел ее в действие заранее, то есть до наступления противника. Я знал, что противник вот-вот выступит, но из Москвы меня уверяли, что все в порядке. Фамилии тех, кто это говорил, назвать не могу». Через шестнадцать лет, 31 июля 1957 года Военная коллегия Верховного Суда отменила данный приговор в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Какие это обстоятельства ‑ не сказано. Признала «серьезные упущения и недочеты», допущенные генералом армии Павловым Д.Г. в руководстве войсками округа, но не проявление трусости, бездействия, нераспорядительности». А что это за недочеты такие, приведшие к разгрому наших войск вермахтом без больших усилий? Даже халатность в его действиях не усмотрели? Если же всего этого не было, то, что тогда было? Закономерный вопрос! Архивы пока молчат, а исторические исследования тоже пока обходят неудобные сведения. Но в народе имеется мнение, что Сталин был прав, расстреляв Павлова, как изменника. Слишком много крови и жизней солдат на совести этого «маленького человека», как он себя именовал. А Военная коллегия, лицемерно отменившая приговор, и тем самым поставившая себя и все правосудие, в один ряд с Павловым и его сообщниками, еще ответит перед историей. Ибо решение вынесла, скорее всего, в угоду такому же «маленькому человеку» ‑ Н.С. Хрущеву, захватившему власть в стране после смерти И.В. Сталина и люто ненавидевшего его.
Что же в рассматриваемый период с января до 22 июня происходило в Белоруссии в плане приготовлений к надвигавшейся войне? Ведь ни население республики, ни военные, ни сотрудники партийно-советско-комсомольского аппарата не были ни глухими, ни слепыми и отлично понимали необходимость оборонных мероприятий. Хватало и трезвомыслящих людей, которых не могла оглушить официальная пропаганда договоров с Германией и войны, если придется, ‑ «Малой кровью, на чужой территории, быстро». Правда жизни брала свое ‑ десятки тысяч белорусов призывали весной 1941 года в Красную Армию на «учебные сборы», обещая, что они вернуться домой осенью. Немецкие самолеты в немалом количестве наблюдали в нашем небе жители республики. Наблюдали они и прибывающие войска, и усиленное строительство десятков аэродромов, и укрепленных районов. Более частыми для населения стали тренировки по противовоздушной и противохимической обороне, завозилось на склады оборудование для8 госпиталей, проходил тщательный учет медсестер и врачей.
Особое внимание уделяли увеличению пропускной способности железных дорог, идущих по территории Белоруссии к западной границе. Началась реконструкция трех важных железнодорожных узлов ‑ Барановичского, Белостокского и Минского, строительство новых железнодорожных линий ‑ Лепель‑Крулевщизна, Тимковичи‑Барановичи, и от границы на Беловежу, что позволяло быстро перебрасывать войска и боевую технику к расположению частей первого и второго эшелона ЗапОВО. Ожидалось скорое прибытие эшелонов, с направленными в Беларусь, тремя армиями из внутренних округов. Шло строительство второй очереди Днепро‑Бугского канала, улучшались условия судоходства на других реках республики для транспортировки грузов.
Продолжались ускоренные работы по строительству четырех укрепленных районов: Гродненского, Осовецкого, Зембровского и Брестского. Укрепленные районы, сооружаемые невдалеке от границы, должны были прикрывать развертывание советских войск в начале войны и не дать возможности прорваться вражеским войскам. Каждый укрепрайон имел протяженность от 80 до 180 километров и глубину обороны от трех до восьми километров. Завершить их строительство планировалось в 1942 году. Но в плановом хозяйстве СССР материальные ресурсы и рабочая сила выделялись только в соответствии с планом. К июню 1941 года было построено только 505 дотов, а оборудовано и вооружено лишь 193 от числа запланированных 1174. По этой причине в начале войны не удалось создать систему обороны границы, опиравшуюся на укрепленные районы.
Развертывалась и целенаправленная работа общественных и государственных организаций в Белоруссии по подготовке технически обученных резервов армии. За 1939–1940 годы в аэроклубах было подготовлено свыше 1500 летчиков, 62 процента белорусских призывников имели военно-технические специальности и сдали нормы ГСО (Готов к санитарной обороне).[60]
Постепенно накалялась обстановка и на границе. С ноября 1940 года по апрель 1941 года на Белостокском направлении было задержано около 1200 нарушителей границы, при этом в 62 случаях нарушители применяли оружие против пограничников. Такая обстановка не могла не тревожить руководящие партийные органы Белоруссии.
Ясно, что германская сторона что-то готовит. Поэтому в апреле 1941 года, на совещании в ЦК Компартии Белоруссии, были заслушаны два доклада ‑ начальника Белорусского пограничного округа А.И. Богданова и Наркома госбезопасности БССР Л.Ф. Цанавы. Если в докладе Богданова были в основном объективные и достоверные сведения о составе сосредоточившейся на польской территории группировки немецких войск и информация о возможных сроках нападения гитлеровской Германии на СССР, то в докладе Цанавы данные о приготовлениях Вермахта на границе расценивались как дезинформация нацистских спецслужб. Обстановка продолжала ухудшаться. Надо было готовиться к возможному началу войны. Поэтому 26 мая 1941 года, через месяц после совещания в ЦК, правительство БССР принимает постановление «Об организации на территории Белоруссии постоянных групп и отрядов по уничтожению авиадесантов противника». До войны почти месяц, в прессе официально сообщается о соблюдении договоров между Германией и СССР, ведется борьба против панических слухов о скором начале войны, а правительство принимает постановление о формировании и организации боевых групп и отрядов на постоянной основе. После начала войны они будут называться «истребительными батальонами».
Создавались эти группы и отряды исключительно на добровольной основе, для них выделены оружие, боеприпасы, назначены командиры. Именно поэтому уже через два-три дня после 22 июня как бы ниоткуда возникают истребительные батальоны по всей Белоруссии, которые сыграли большую роль в успешной борьбе с многочисленными авиадесантами гитлеровцев, и с засланными врагом разведывательно-диверсионными группами, и с отдельными агентами. Обращает на себя внимание тот факт, что, хотя постановление правительства Белоруссии шло в разрез с официальной линией Москвы, никто не только не был арестован, но даже не снят с должности или понижен. Эта реакция ясно показывает, что в НКВД, и в Кремле хорошо понимали возрастающую угрозу со стороны Германии и не стремились наказывать местных работников за проявленную инициативу. Однако момент мобилизационной подготовки истребительных групп и отрядов до начала войны в плане их обучения был упущен, ибо времени для реализации постановления правительства, оставалось крайне мало. Во второй половине мая бюро ЦК Компартии Белоруссии обсуждал вопрос о ситуации на границе, заслушал и обсудил доклад командующего ЗапОВО Павлова «Об обстановке на границе и состоянии войск округа». Участники заседания (до этого они выезжали в пограничные районы, беседовали с воинами-пограничниками, гражданским населением) не преуменьшали грозившей с запада опасности.
О возрастающей угрозе войны, о напряженной международной обстановке говорил и первый секретарь Брестского обкома партии М.Н. Тупицын 19 июня на расширенном заседании обкома, хотя и указывал, что по этому вопросу не следует вести открытых разговоров.
Не являлась для руководства республики тайной и начало осуществления мероприятий Разведуправления Генерального штаба Красной Армии по созданию в приграничных военных округах тайных баз с запасом оружия, боеприпасов и иного военного имущества иностранного образца, резервных агентурных сетей на своей территории на глубину 100‑150 километров. Этот план утвердил начальник Генштаба Г.К. Жуков, в мае 1941 года. Однако все эти мероприятия запоздали и, поэтому, не были выполнены в полном объеме. Кроме того, в Красной Армии в предвоенный период господствовало мнение, что будущая война будет вестись наступательными операциями на территории противника, а данный план мероприятий был страховкой, если на первом этапе войны придется немного отступить, а уже потом перейти в контрнаступление.
К сожалению, партийные и военные руководители, как и Цанава, проявляли нерешительность и ждали указаний «сверху».[61]
Так что Беларусь готовилась к войне, но делала это не в полную силу и, запаздывая по времени. Это была беда не только Минска, но и Москвы. Все стремились урегулировать вопросы с Германией мирным путем, путем дипломатии и переговоров, даже с некоторыми уступками. На крайний случай была стратегия контрудара, однако руководство СССР и политическое, и военное явно переоценивали наши силы и возможности, также как явно недооценивали всю силу Вермахта и немецкую стратегию блицкрига. Советская разведка не только имела большие успехи в первой половине 1941 года, но и имела ряд неудач. Она не смогла узнать и предупредить о силе первого удара Вермахта, об основной, при прорывах фронта, ставке немцев на мощь действий танковых и авиационных соединений, о создании 6‑7 кратного превосходства на ударных направлениях.
Каково было соотношение сил ЗапОВО и группы армий «Центр» (далее – ГАЦ)? Было ли значительное превосходство Вермахта над войсками ЗапОВО? Вот некоторые цифровые данные о войсках ЗапОВО и ГАЦ накануне 22 июня: общее количество дивизий ГАЦ 47, ЗапОВО – 46. Из них танковых и моторизованных дивизий, соответственно, 16 и 18, кавалерийских ‑ 2 и 2, стрелковых – 30 и 26, орудий и минометов – 10763 и 13125, личного состава 820000 человек и 673000 человек. О качестве боевых самолетов и танков ГАЦ и ЗапОВО было сказано выше. Так что никакого превосходства, кроме численности личного состава в ГАЦ над численностью в ЗапОВО, не было. Разница в численности людского состава была в связи с тем, что по штату советская дивизия насчитывала 10 тысяч человек, а немецкая 15‑16 тысяч.
Все дело было не в количестве дивизий, а в качестве подготовки личного состава к войне, летчиков и танкистов, в квалификации офицерского состава, в организации боевых действий, в размещении войск.
Войска ЗапОВО были выстроены в два эшелона. В первом, вблизи границы, располагались 26 дивизий. Тринадцать дивизий ‑ 8 танковых, 4 моторизованных, одна кавалерийская, были во втором эшелоне, несколько в резерве. Большинство дивизий второго эшелона выдвигались из глубокого тыла округа и находились в 400‑600 километрах от государственной границы. Из восьми танковых дивизий округа, имеются данные, что танками были укомплектованы только две дивизии, примерно, на 50 процентов, а четыре дивизии – менее 50 процентов. Еще две дивизии почти не имели танков вовсе. Кроме того, в распоряжении командующего округа имелись 18 дивизий, но двенадцать из них были не отмобилизованными стрелковыми дивизиями с численностью от 500 до 2000 человек. [62]
Загадка 22 июня объясняется двумя факторами: с нашей стороны, во-первых, стратегией контрудара, во-вторых, имеющимися значительными недостатками в войсках и, пока скажем мягко, странными действиями отдельных высокопоставленных военных.
22 июня стал самым тяжелым днем в начавшейся войне. В ходе войны СССР потерял до 27 миллионов человек. Из них Белоруссия потеряла около трех миллионов из 10 миллионов довоенного населения республики.
Это была страшная и разрушительная война, которой ещё не знало человечество. Ни один народ, ни одна страна в мире не потеряли столько своих граждан в процентном отношении к населению как Белоруссия. Мы выстояли, мы победили. МЫ ‑ это советский многонациональный народ. И белорусы внесли в дело общей Победы над нацистской Германией, ее полный разгром и разгром ее союзников, достойный вклад. Но чего это стоило нашей общей стране, чем и кем пришлось жертвовать и через что пройти?! Практически в Беларуси нет ни одной семьи, в которой кто-либо не погиб в 1941–1945 годах.
Но начиналась дорога к ПОБЕДЕ, в почти четыре огненных года, на рассвете 22 июня 1941 года в Белоруссии.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
Во сколько, по времени, немецкие пехотные, танковые, моторизованные войска и военно-воздушные силы Вермахта напали 22 июня 1941 года на территорию СССР, и была ли возможность предупредить наши войска о нападении, хотя бы за несколько часов? В нашей исторической литературе, особенно в учебниках для школ, техникумов, вузов, в методических пособиях для них внедрен миф о внезапности нападения, о том, что никто никого не предупредил. Этот миф проник в кино и на телевидение, в текущую печать и в художественную и документальную литературу. Этот миф нужен был нашим идеологам и в военные годы, и в послевоенное время, и до конца существования СССР, и даже после его распада. Он удачно объяснял, почему наши армейские части, имевшие большее количество танков, самолетов, артиллерии и минометов, чем у Вермахта, потерпели поражение летом 1941 года и вынуждены были отступать до Москвы, до Ленинграда, до Ростова-на-Дону вплоть до начала декабря 1941 года.
Страна потеряла миллионы убитыми, ранеными. Многие промышленные и сельскохозяйственные центры СССР вынуждены эвакуироваться на восток. На Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию было вывезено несколько тысяч предприятий и миллионов, успевших уйти от фашистской оккупации, квалифицированных рабочих и инженеров, женщин, детей и стариков. Гитлеровцы смогли захватить в 1941 году Белоруссию, Украину, Молдавию, западные и северо-западные районы России. Чтобы не было ненужных и лишних вопросов, почему так произошло, кто и что виновник произошедшего. В.М. Молотов, с согласия И.В. Сталина, в своем выступлении 22 июня о начале войны с Германией, а затем и сам Сталин ‑ «В обращении к советскому народу 3 июля 1941 года», в качестве главной причины назвали «внезапное, коварное, бандитское нападение гитлеровцев». И еще одна причина ‑ превосходство врага в количестве боевой техники.
После 20-го съезда КПСС, на котором Н.С. Хрущев яростно «разоблачил культ личности» Сталина, была к предыдущим причинам добавлена еще, и третья, обвинявшая во всем, в основном, одного лишь Сталина, не верившего многочисленным донесениям советской разведки о нападении Германии на СССР 22 июня. Он, якобы, слепо доверял Гитлеру и нерушимости советско-германских договоров 1939 года, и мешал вовремя привести войска военных округов в боевую готовность, и долго колебался, и всего за час – полтора до начала войны дал разрешение. Поэтому не успели зашифровать, передать и расшифровать на местах в штабах директиву № 1. Наши войска, в том числе пограничные, ничего не знали и мирно спали, когда на них обрушились снаряды, мины, бомбы фашистов, ринулись танки и пикировщики Вермахта. Здесь никто не собирается полностью оправдывать или преуменьшать вину Сталина, членов Политбюро, включая Н.С. Хрущева, наркома обороны СССР Тимошенко и начальника штаба РККА Жукова в том, что произошло. Красная Армия не смогла отразить страшный удар Вермахта, не смогла организовать прочную и устойчивую оборону в приграничных районах, не смогла нанести агрессору такие потери, чтобы остановить наступлении, не смогла выиграть приграничные сражения, хотя к этому усиленно готовилась, и после обороны нанести мощный контрудар. Но в этом провале только доля их вины. Большая или небольшая эта доля ‑ судить читателю.
Дело обстояло не так или не совсем так. Весь день 21 июня и часть ночи с 22.20 заседало Политбюро под руководством Сталина, с участием Тимошенко, Жукова и Василевского. Угроза нападения Германии ни для кого не была секретом. Обсуждали политические, и военные меры, на случай агрессии, которая могла начаться ночью, то ли в субботу, то ли в воскресенье. Попытки втянуть гитлеровское руководство в любые переговоры ничего не дали, так как в Берлине отсутствовали и Гитлер, и министр иностранных дел Германии Риббентроп, и государственный секретарь МИД барон Вайцезеккер. Кроме того, поступали сообщения из Прибалтийского, Западного и Киевского военных округов о перебежчиках ‑ солдатах Вермахта, на нашу сторону.
Они сообщили о письменном обращении фюрера к немецким военнослужащим, в связи с наступлением на территорию СССР. Сказали и время начала наступления ‑ четыре часа утра 22 июня, перебежчики хотели предупредить советское командование, так как сочувствовали Советскому Союзу и ничего хорошего ни для Германии, ни для немцев от войны не ждали. Еще можно было объявить тревогу в частях прикрытия, привести ПВО в полную боевую готовность. Тимошенко повторил просьбу вечером 21 июня (первая была утром того же дня) о приведении войск пограничных округов в боевую готовность и предложил соответствующий проект директивы. Ее зачитал Жуков. Но она не была одобрена. Сталин, при молчании членов Политбюро, возразил: мол, такую директиву сейчас давать преждевременно, может быть, вопрос еще уладится мирным путем.
Новая директива, уже составленная Жуковым и Василевским, гласила: «1) В течение 22‑23 июня возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО (Ленинградский военный округ), ПрибОВО (Прибалтийский военный округ), КОВО (Киевский округ), ЗапОВО (Западный военный округ), ОдОВО (Одесский военный округ). Нападение может начаться с провокационных действий. 2) Задача наших войск ‑ не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. 3) Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности. Встретить возможный внезапный удар немцев и их союзников». Директива, она получила название № 1, требовала в течение ночи 22-го июня скрытно занять войсками все построенные и недостроенные сооружения около границы, открыть склады с вооружением и боеприпасами, довооружиться, рассредоточить авиацию на аэродромах и замаскировать ее, привести в боевую готовность средства ПВО.[63]
В этот же день были приняты еще две директивы ‑ № 2 и № 3. В директиве № 2 утром Сталин утвердил предложение Жукова и Тимошенко, немедленно обрушиться всеми, имеющимися в приграничных округах силами, на прорвавшиеся части противника и отбросить их за государственную границу, не допустив дальнейшего продвижения. Она, по соотношению сил и сложившейся обстановке оказалась явно нереальной, а потому и не была реализована в жизнь, как значительно позже об этом писал Жуков. Директива № 3, принятая после полудня, настаивала на уничтожении в двухдневный срок основных сил противника и переносе военных действий на его территорию. Эта директива предусматривала переход наших войск в контрнаступление с задачей разгрома войск Вермахта на важнейших направлениях. Директива стала новой ошибкой, во многом приведшая к поражению в приграничных сражениях в июне 1941 года. К сожалению, наши войска не были своевременно отмобилизованы, подверглись сильным ударам авиации противника. Директива № 3 ушла в войска в 21.15. Чтобы все организовать оставалась только ночь.
Директива № 1 получила одобрение и была передана из Москвы в 0.30 ночи 22 июня «и дошла до штабов округа лишь перед самым вторжением. Войска же оставались в неведении до самого начала вторжения». Это Киевский военный округ. А в Западном военном округе? Примерно в половине четвертого часа ночи Павлов, связавшись с Коробковым (командующим 4-й армией), сообщил ему, что ожидается провокационный налет фашистских войск на нашу территорию и потребовал ‑ на провокацию не поддаваться, лишь пленить их, но границу не переходить. Для этого необходимо привести части в боевую готовность, скрытно заняв доты Брестского укрепрайона и перебазировать полки авиадивизии (9-й смешанной) приданные 4-й армии, на полевые аэродромы. Коробков начал отдавать приказы командирам, подчиненных ему частей, когда обрушился шквал огня с немецкой стороны. Гитлеровская авиация нарушила нашу границу в 3.30 ночи и произвела налеты с бомбометанием на советские военные аэродромы, а в четыре утра их артиллерия и минометы открыли огонь по нашим войскам. Нападение на СССР произведено без объявления войны. А войну Германия объявила СССР уже после ее начала. Армейская авиация, за исключением 20 самолетов, была уничтожена. В половине шестого утра в штаб 4-й армии пришел приказ – телеграмма из штаба округа с указанием: «Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых действий, приказываю поднять войска и действовать по-боевому». В Кремле, в половине пятого утра 22 июня, Молотов сообщил Политбюро, заседавшему с участием военных, что германское правительство объявило нам войну. Сталин опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная тягостная пауза». Так вспоминает события раннего утра 22 июня Жуков. [64]
Никто и нигде, вышеприведенные данные, не опровергает. Потому, что так и было. Но, ставшие известными и опубликованными, факты, в последнее время значительно уточняют и корректируют события. Так, гитлеровская авиация нарушила нашу границу в 3.30 ночи 22 июня, а артиллерия и минометы открыли огонь в 4 часа утра. Германия напала на СССР без объявления войны, а войну объявила после осуществленного нападения. Если ранее, в течение десятилетий, все сводили к запоздавшей и неполной директиве № 1, из-за чего наши войска подверглись внезапному нападению Вермахта и потерпели поражение, то сейчас картина, происходивших событий, далеко не так однозначна. Первым, как говорится, «выпустил кота из мешка» П.А. Судоплатов, отсидевший 15 лет в советских тюрьмах по обвинению в якобы, участии, в мифическом «заговоре Берии». Ни одна зарубежная контрразведка: ‑ ни Абвер – 3, ни гестапо и СД, ни разрекламированное ФБР США, не смогли захватить его или обыграть в тайных сражениях в разведоперациях. В 2001 году вышла в свет в Москве его книга «Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год», в которой четко и ясно написано на странице 211 следующее: «Там (имеются в виду как территориальные подразделения НКВД–НГБ, так и военной контрразведки, штабы пограничных и внутренних войск, дислоцированных в Украине, Белоруссии и Прибалтике) боевая готовность была объявлена фактически 21 июня в 21.30, т.е. до получения санкционированной Сталиным известной директивы наркома обороны».
Следует иметь в виду, что сотрудники военной контрразведки в этот период подчинялись наркомам обороны и НКВД, и находились в подразделениях, частях, соединениях от полка и выше. Поэтому командование советских войск, в приграничных особых военных округах, никак не могло не знать об этой боевой тревоге. И боевую готовность могли объявить только с согласия наркома госбезопасности и большинства членов Политбюро.
Не менее интересно свидетельство Судоплатова о том, что в 3.00 часа ночи 22 июня руководители служб и направлений НКГБ узнали о начале военных действий от Меркулова, в то время наркома государственной безопасности СССР. Наиболее решительно на этом срочном совещании повел себя П.С. Михеев, начальник контрразведки (особые отделы) в армии, который сразу сообщил о том, что в особых отделах армий и флотов имеются исчерпывающие инструкции о перестройке работы в условиях военного времени. Интересно получается: немецкие самолеты еще только взлетают, чтобы бомбить наши аэродромы, склады, узлы связи, штабы, они еще не перелетели границу, а в НКГБ собирают совещание руководителей госбезопасности СССР, где объявляют о начале военных действий. Вряд ли Михеев проявлял такую решительность без одобрения Тимошенко и Жукова. Так что «наверху» прекрасно все знали, но с первых часов во многом утратили контроль над событиями, которые стали быстро развиваться в непредусмотренную и худшую сторону.
А как происходили события перехода от мира к войне в самих наших войсках? Свидетельствует Б.А. Фомин, генерал-майор, начальник оперативного отдела штаба 12-й армии (так указано в тексте публикации) ЗапОВО (с 22-го июня ‑ Западного фронта). Он пишет: «Выписки из планов обороны государственной границы хранились в штабах корпусов и дивизий в запечатанных «красных» пакетах. Распоряжение о вскрытии красных пакетов из штаба округа последовало на исходе 21-го июня. Удар авиации противника (3.50 22-го июня) застал войска в момент выдвижения их для занятия обороны. По утвержденному плану обороны госграницы 1941 года, в связи с выдвижением крупных германских сил к госгранице, было предусмотрено увеличение войск, включенных в план. К 21 июня на 400 километров фронта вдоль государственной границы (на расстоянии 8‑10 километров от нее) было сосредоточено тринадцать стрелковых дивизий, четырнадцатая дивизия была на подъезде в районе северно-западной опушки Беловежской пущи. На глубине 250‑300 километров находились еще шесть стрелковых дивизий, из них четыре дивизии были в движении». Его слова о заранее начатых, хотя и запоздалых, приготовлениях к боевым действиям, подтверждает генерал-майор М.А. Зашибалов, командующий 86-й стрелковой дивизией 5-го стрелкового корпуса 10-й армии ЗапОВО. Он сказал: «В час ночи 22 июня 1941 года был вызван к телефону командиром корпуса и получил нижеследующие указания: штаб дивизии, штабы полков поднять по тревоге и собрать их по месту расположения. Стрелковые полки по боевой тревоге не поднимать, ждать его приказа».
Он, Зашибалов, приказал начальнику штаба дивизии связаться с пограничными комендатурами и заставами и установить, что делают немецко-фашистские войска и что делают наши пограничные комендатуры и заставы на государственной границе СССР. В 2.00 начальник штаба дивизии доложил сведения, полученные от начальника Нурской пограничной заставы, что немецко-фашистские войска подходят к реке Западный Буг и подвозят переправочные средства.
После доклада начальника штаба дивизии в 2 часа 10 минут 22 июня командир корпуса приказал дать сигнал «Буря» (это сигнал военного нападения, и разрешение открыть огонь по противнику), поднять стрелковые полки по тревоге и выступить форсированным маршем для занятия участков и районов обороны. В 2 часа 40 минут 22 июня получил приказ командира корпуса вскрыть пакет, хранящийся в моем сейфе, из которого мне стало известно ‑ поднять дивизию по боевой тревоге и действовать согласно принятому мною решению и приказу по дивизии, что мною было сделано по своей инициативе на час раньше. Надо отметить, что все эти свидетельства опровергают мифы, что штабы и войска ждали и не дождались директивы № 1 своевременно. План прикрытия границы мог быть введен только при получении штабом ЗапОВО шифрованной телеграммы за подписью наркома обороны и члена Главного Совета (видимо Главного Военного Совета, где председателем был И.В. Сталин). И военные руководители начали действовать самостоятельно, не дождавшись этой директивы ни днем, ни вечером 21 июня. Текст телеграммы гласил: «Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 года». Закономерный вопрос: неужто требовалось много времени для того чтобы подготовить эту телеграмму, зашифровать ее, отправить и расшифровать на местах? А ведь распоряжение Москвы было уже получено штабами к исходу 21 июня был дан приказ вскрыть «красные пакеты». А ведь они могли вскрываться только в случае войны! Так что военную тревогу, если не во всех, то во многих частях и соединениях сыграли еще до начала боевых действий и оправдывать провалы в первый день войны отсутствием указаний сверху, не получается.
А как обстояло дело в авиационных частях? В 123-й истребительный полк 10-й смешанной авиадивизии, прикрывающей с воздуха часть 10-й и 3-ю армии в районе Белостокского выступа и Гродно, в 23 часа 47 минут 21 июня поступил приказ «Буря, буря, буря». И хотя полк почему-то был разоружен, а пулеметы и пушки с истребителей сданы на склад, командование полка, после поступления приказа, действовало быстро и решительно, мобилизовав всех военнослужащих, которые, под руководством техников, снова вооружили самолеты. Это себя полностью оправдало. За 22 июня летчики полка сбили 30 фашистских самолетов. Командир полка майор Б.Н. Сурин совершил за день четыре боевых вылета и сбил три немецких самолета. Будучи смертельно раненым в бою, он смог посадить и сохранить самолет.[65]
К сожалению, так было далеко не везде. Отсутствовало ПВО аэродромов, не были рассредоточены и замаскированы самолеты, склады боеприпасов и горючего часто плохо располагались и не были надежно защищены. Наша авиация в первый день войны понесла тяжелые потери и самолетов, и личного состава.
Возникает закономерный вопрос ‑ почему одни части получили боевой приказ, а другие ‑ нет?! Для тех, кто не получил этот приказ, война действительно стала внезапной, удар врага был неожиданным. Для тех, кто получил, начались тяжелые бои, с изготовившимися частями Вермахта, которые стремительно наступали. Ведь из Москвы направляли приказ всем. Почему в таком случае возникла роковая задержка? В предыдущей главе приведены данные о том, что ряд частей и соединений не получили нужного приказа. Кто же не прав, кто что-то путает ‑ или те, кто не получил приказ, или те, кто его получил?
Прошло уже 77 лет после страшного дня 22 июня 1941 года. Но архивы пока не изучены, нет полных данных и сведений, мало еще исторических исследований с глубоким анализом и честным показом того, что произошло. В качестве гипотезы можно предположить, что часть (меньшая? большая?) боевых приказов по войскам ЗапОВО (мы не исследуем ситуацию в других военных округах) были блокированы и дошли со значительным опозданием до штабов наших войск, когда уже шла война. Как и когда была блокирована отправка приказов, а главное, кем и зачем, остается без полного и ясного ответа. Понятно одно ‑ часть линий и узлов связи была выведена из строя в ночь 22 июня немецкими диверсантами. Но встает вопрос: почему они пощадили главные пункты радиосвязи и проводной связи ЗапОВО? Почему немецкая авиация не бомбила 22 июня командный пункт и штаб ЗапОВО, хотя его не вынесли, из хорошо известных немецкой разведке зданий, в нарушение приказа Наркома обороны о подготовке и выносе командных пунктов округов еще в начале мая? После разгрома Вермахта и капитуляции нацистской Германии архивы различных фашистских разведок попали в руки стран-победителей, но далеко не все опубликовано. Пока по этим вопросам все тихо и туманно.
А какое положение советских войск было накануне 22 июня не только в Белоруссии, но и в Прибалтике, и в Украине? Только в 2017 году были рассекречены некоторые архивные документы о начале войны, собранные еще в 1952 – 1953 годах у участников событий группой генерал-полковника А.И. Покровского в Военно-научном Управлении Генерального Штаба Советской Армии. Генерал К. Деревянко в июне 1941 года служил заместителем начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа и был очень информированным по роду своей работы и видел многие аспекты складывающейся обстановки. Он прямо говорит о том, что в армии не просто догадывались, а точно знали о дате начала войны до катастрофы 22 июня. «Группировка немецко-фашистских войск накануне войны в мемельской области, Восточной Пруссии и в Сувалковской области в последние дни перед войной была известна штабу округа достаточно полно и в значительной части ее подробно. Вскрытая группировка расценивалась разведотделом как наступательная группировка со значительным насыщением танками и моторизованными частями. Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усиленной и непосредственной подготовке фашистской Германии к войне за 2‑3 месяца до начала боевых действий. В последнюю предвоенную неделю эти сведения поступали почти ежедневно, причем в них указывалось довольно точно не только о дне, но и вероятном часе начала боевых действий», признается бывший разведчик. Результат такой осведомленности командования и штаба Прибалтийского особого военного округа (командующий округом Ф.И. Кузнецов) нулевой. Все всё знали. Но ничего не делали, а если что и делали, то лучше бы ничего не делали. Некоторые указания отдельных командиров явно носили предательский и изменчиский характер. Так генерал-лейтенант П. Собенников, в 1941 году командовал 8-й армией данного округа, приводит следующие факты: «Даже в ночь на 22 июня я получил приказ от начальника штаба округа Кленова в весьма категоричной форме ‑ к рассвету отвести войска от границы, вывести их из окопов, что я отказался делать. 48-я стрелковая дивизия в эту же выступила из Риги и двинулась к границе с музыкой. Эта хорошая дивизия, не зная, что война началась, подверглась атаке с воздуха, а также прорвавшихся наземных войск немцев. Понесла большие потери и, не дойдя до границы, была разгромлена». Генерал-майор Н. Иванов в 1941-м служил начальником штаба 6-й армии (командующий И.Н. Музыченко) Киевского особого военного округа. Он вспоминал, что в армии «происходили более чем странные вещи. Когда немцы уже открыли огонь по пограничникам 22-го июня, советские командиры не разрешали подчиненным отвечать тем же». Несмотря на сосредоточение немецких войск, командующий киевского военного округа М.П. Кирпонос запретил выдвигать части прикрытия, приводить войска в боевую готовность, а тем более усиливать их даже после начала обстрела госграницы и налетов авиации ночью с 21 на 22 июня. Только днем 22 июня было разрешено, когда немцы перешли государственную границу СССР и действовали на нашей территории». Да и с письменными указаниями о действиях в случае войны далеко не все однозначно. Генерал-майор Б. Фомин рассказывал «о неких красных пакетах, которые хранились в штабах армий и должны были вскрыты по особому приказу. Он поступил в ночь на 22 июня. В пакетах были листы с выписками из планов обороны государственной границы, принятых еще в апреле. Значит, высшее командование все же принимало к сведению данные разведки и готовилось к нападению Германии?». Немаловажный вопрос о соотношении сил советских войск и сил Вермахта. В Прибалтийском особом военном округе 26 советских дивизий и 26 дивизий Вермахта; 1412 танков в частях Красной Армии и 700 танков в группе «Север» Вермахта; 1211 советских самолетов против 830 у группы «Север». В Киевском особом военном округе 58 советских дивизий против 41 дивизии группы армий «Юг» Вермахта; 4472 танка в частях Красной Армии и примерно 1100 танков в группе армий «Юг»; 1313 советских самолетов против 900 самолетов у группы армий «Юг». О каком превосходстве сил Вермахта может идти речь? Количество было у Красной Армии, а вот качественное превосходство было у немцев. В Киевском округе наблюдается та же картина, что и в ЗапОВО в Белоруссии, и те же результаты. Части прикрытия оказались застигнуты врасплох и не могли оказать организованного сопротивления. Все пограничные мосты попали в руки противника в полной сохранности. На приведение войск в боевую готовность и необходимость занять приграничные укрепления требовалось 8‑10 часов, а на развертывание всех сил армий не менее двух суток. А времени на это уже не было. Ни на одном стратегическом направлении советским войскам не удалось остановить войска Вермахта. Причины? О некоторых уже сказано, а о других будет сказано. Во всем просматривается единая линия как в ЗапОВо, так и в Прибалтийском и Киевском округах. Наши войска были подставлены под удар немецких войск отдельными высокопоставленными военачальниками в силу их некомпетентности или неспособности осуществлять руководство войсками, или же они были не выявленными участниками военного заговора. Слишком уж много похожего в трагических событиях лета 1941 года на всех стратегических направлениях. И сорвать планы Вермахта и военных заговорщиков могло только одно ‑ самоотверженная и жертвенная борьба советских воинов в самых тяжелых условиях начала войны, которая наносила врагу серьезные потери и влекла постепенное замедление продвижения фашистских войск, выигрыш времени для превращения СССР в единый военный лагерь и мобилизации всех сил многонациональной страны.
Первый удар передовых частей Вермахта встретили пограничники ‑ заставы и наряды. Они не дрогнули, не побежали в панике, от многократно превосходящего численностью и вооружением, врага. Что могли противопоставить противнику пограничники? Только винтовки, редкие автоматы, считанные пулеметы, укрывшись в, наспех вырытых, окопах, и возведенных за 2‑3 дня, дзотах. У гитлеровцев же мощный артиллерийский и минометный обстрел в течение получаса, танки, бронетранспортеры с пулеметами и пехотой. На захват погранзастав немецкие генералы отводили 30 минут. Заставы сражались целый день, некоторые по несколько дней, в полном окружении и многочисленными атаками и обстрелами врага. На западных границах Белоруссии находились одиннадцать пограничных отрядов, в их составе было 19 519 человек. На старой границе (до 17 сентября 1939 года) несли службу пять погранотрядов. Героями были не десятки, даже не сотни пограничников, а около двадцати тысяч. Они, так же, как и мы, любили жизнь, но еще больше любили и защищали Родину, всех советских людей, независимо от национальности, и поэтому стояли насмерть. Фашисты смогли продвинуться вперед только по трупам наших пограничников.
Вот всего несколько примеров из многих десятков. Около деревни Головенчицы бойцы 1-й погранзаставы, под командованием старшего лейтенанта А.Н. Сивачева, одиннадцать часов вели бой и уничтожили шестьдесят гитлеровцев и три танка. Около деревни Доргунь пограничники 4-й заставы, во главе со старшим лейтенантом Ф.П. Кириченко, отбили пять атак врага. Почти все защитники заставы погибли, но не отступили. У всех пограничников было четкое указание ‑ без приказа не отступать, сражаться до последнего патрона, до последней гранаты. Бойцы 3-й заставы 86-го Августовского погранотряда под командованием лейтенанта В.М. Усова, в течение восьми часов отбивали атаки гитлеровцев. И когда днем на окруженную заставу проник посыльный из комендатуры, с приказом отходить, то из тридцати пограничников в живых осталось шестнадцать, почти все раненые. Погиб на заставе и В.М. Усов. Ему 6 мая 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза. Застава носит его имя.
22 июня на рассвете, пограничники начали сражаться с войсками Вермахта, давая ему отпор раньше всех. В полночь с 21 на 22 июня на участках 5-й и 7-й застав, у пограничных столбов 86-го погранотряда, пограничные наряды завязали бой с диверсионными группами гитлеровцев и отбросили их за государственную границу. В 4-е утра 22 июня все заставы погранотряда вступили в неравный бой с ударными силами противника. Под давлением превосходящих сил противника в шестом часу утра пограничники по приказу начали организованный отход, с боем оставляя нашу землю.
В 9 утра сводный отряд, уцелевших пограничников, в составе 145 человек занял оборону на реке Бенка. Дважды в течение дня воины заставили фашистов откатываться назад и нанесли врагу большие потери. А когда гитлеровские войска прорвались на восток, отряд пограничников отошел, минируя за собой мосты и дороги. Эти действия сдерживали продвижение колонн мотопехоты и танков Вермахта. Участок госграницы, протяженностью 182 километра вдоль реки Буг, охранял 17-й Брестский Краснознаменный погранотряд. Под прикрытием дымовой завесы фашисты начали переправу через реку. Все заставы отряда на рассвете 22 июня вступили в бой. Особенно жестокие бои шли у застав № 2 и № 5. Лишь немногие, оставшиеся в живых, вышли из окружения и вынесли тяжелораненых. Более пяти часов у деревни Челеево Брестского района шестьдесят бойцов-пограничников 5-й заставы, во главе с политруком И.П. Сорокиным, вели тяжелый бой с ударным отрядом гитлеровцев. Противник захватил заставу только после гибели ее последнего защитника. Даже погибая, в неравном бою, пограничники прихватывали с собой гитлеровцев, чтобы они уже никогда не могли убивать советских людей. Так заместитель политрука 7-й пограничной заставы В.Петров предпочел умереть, но не сдаться врагу, взорвав себя и группу фашистов последней гранатой.
Нацистские вояки, получив серьезный отпор, настолько озверели, что командование Вермахта запретило брать пограничников, даже раненых и контуженых, в плен, а сразу их расстреливать. Парни в зеленых фуражках наводили ужас на врага.
Таким образом, все факты и свидетельства развенчивают миф о том, что штабы и войска ждали и не дождались вовремя директивы № 1. План прикрытия границы мог быть введен в действие только при получении штабом ЗапОВО шифрованной телеграммы за подписью наркома обороны и члена Главного Совета (видимо, Главного Военного Совета, где председателем был Сталин). Или военные руководители начали действовать самостоятельно, не дождавшись этой директивы ни днем 21 июня, ни вечером. Текст телеграммы гласил: «Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 года». Очень трудно соответственно зашифровать и расшифровать такую телеграмму на армейских узлах связи?! А распоряжение Москвы было получено в округах на исходе 21 июня. Был ведь еще приказ вскрыть «красные конверты». А они могли вскрываться только в случае войны! Так что военную тревогу, если не во всех, то во многих частях и соединениях объявили еще до начала боевых действий.[66]
Бойцы сражались, погибали и оставались навечно в памяти народа.
С первых шагов, с первых метров белорусской земли начиналось, пусть очень малозаметное, торможение огромной, вооруженной до зубов, не знавшей до 22 июня 1941 года поражений, военной машины нацистской Германии ‑ Вермахта.
Славную страницу в летопись первых дней войны вписали защитники ДОТов в Брестском укрепленном районе (БУР). Они малоизвестны, во всяком случае, многие из них, и по сей день. В основном, все внимание в наши дни обращают на защитников «линии Сталина», выстроенной в конце 20-х – середине 30-х годов и восстановленной, в ряде мест, для экскурсий, несколько лет назад. Это, конечно, нужно, это полезно, особенно для понимания цены мирного неба над республикой для нынешнего поколения и будущих поколений. Чтобы подрастающая молодежь, знающая о Великой и кровопролитнейшей войне, к счастью, только из учебников истории, литературы, художественных фильмов и документальных телепередач, могла, находясь на «линии Сталина», ярко себе представить с чем имели дело их деды и прадеды. Если народ не помнит прошлого, то у него нет будущего.
Линию долговременных укреплений (ДОТов) на новой границе стали сооружать летом 1940 года. Брестский УР строили на 150-и километровом участке западной границы. Каждый ДОТ прикрывал огнем либо мост, либо перекресток дорог, либо господствующую в данной местности высоту, а все вместе были сведены в три батальонных опорных района, которые стали на пути врага. Их обороняли 600 бойцов трех пулеметно-артиллерийских батальонов № 16, № 17, № 18.
ДОТы были мощными укреплениями. Наиболее распространенными из них двухорудийные ДОТы, восьми, десятигранные толстостенные железобетонные коробки, из лучшего бетона, закапывались в землю по самые амбразуры, и строились двухэтажными. Верхний этаж делился перегородкой на две орудийные позиции ‑ правую и левую. В центре командирская рубка с перископом. Галерея, специальный тамбур, отводящий в сторону от главной броневой двери взрывную волну, в случае прямого попадания, крупнокалиберного снаряда или небольшой авиабомбы, и газовый шлюз, если враг применит отравляющие вещества. На нижнем этаже, который повторял планировку верхнего, находились хранилища снарядов и пулеметных лент, казарма на 30‑40 человек, отдельные места для рации, артезианского колодца, туалета. В одном из отсеков находились электроагрегаты и фильтрационные установки для подачи чистого воздуха и чистой воды. Наверху на орудийных позициях стояли 76-и или 45 миллиметровые пушки с укороченными стволами. Так выглядел ДОТ в проекте.
Однако к июню 1941 года из запланированных 1174 ДОТов было построено только 505 ДОТов, а оборудовано и вооружено только 193 в четырех укрепленных районах: Гродненском, Осовецком, Зембровском и Брестском. Наиболее подготовленным из них был Брестский, который находился на важнейшем стратегическом направлении. В нем уже успели построить около половины, намеченных по плану, укреплений. Однако это были еще только бетонные коробки, без электричества, воды, связи. Не хватало орудий, мало было пулеметов, часто во многих ДОТах не было постоянного гарнизона. Но, определенные меры для их боеготовности и маскировки, прилагались (с апреля ‑ мая). В некоторых ДОТах, законспирированных под скирды, сараи, избы, жили гарнизоны. Жили скрытно, ничем не обнаруживая себя. Завтраки, обеды, ужины подавались им в термосах не сразу. Их, в начале, доставляли в ложные ДОТы, которые возводились почти на глазах местных жителей, затем, по ходам сообщений, в настоящие ДОТы. Пулеметчики и артиллеристы неделями изучали вид из своей амбразуры и знали местность, даже закрыв глаза.
С первых минут войны воины укрепрайона открыли меткий огонь по врагу, заставили залечь в секторах обстрела штурмовые отряды немцев, остановили на железнодорожных мостах через Буг (мосты за несколько минут до начала боевых действий были захвачены гитлеровскими разведывательными подразделениями) бронепоезда с черными крестами, заставили свернуть с шоссе и с укатанных местных дорог, на бездорожье, бронемашины противника. Сейчас невозможно полностью восстановить в деталях и хронологии панораму боя в Брестском укрепрайоне, развернувшегося на полтораста километров южнее и северо-западнее Бреста. Между прочим, несколько ДОТов находились и на территории Брестской крепости. Попытаемся осветить хотя бы известные на сегодняшний день бои, и результаты действий некоторых ДОТов.
В районе Дрогичина и Семятичей стойко оборонялись подразделения 16-го и 17-го пулеметно-артиллерийских батальонов. Артиллеристы из ДОТа «Светлана», в первые же часы боя, подбили на железнодорожном мосту через реку Буг, немецкий бронепоезд. Второй бронепоезд, из которого гитлеровцы пытались высадить десант, был поврежден меткой стрельбой из ДОТов на мосту под самым Брестом. Воины 17-го батальона, под руководством своего командира капитана А.В. Назарова, организовали оборону в недостроенных укреплениях и удерживали занятые позиции в течение нескольких дней. Гарнизон ДОТа «Орел», под командованием лейтенанта И.И. Федотова, оборонялся почти неделю. После того, как у защитников кончились боеприпасы, оставшиеся в живых, закрыли все амбразуры и погибли, но не сдались врагу, предпочтя смерть плену.
Защитники ДОТов не только метко и часто стреляли по врагу, но при удобном случае совершали вылазки и сами нападали на одиночные и штабные машины, захватывали оружие, боеприпасы, документы, питание. Так из ДОТа под деревней Слож (18-й батальон) под руководством младшего лейтенанта А.Еськова была совершена дерзкая вылазка. Старшина Е.Горелов и старший сержант Жир (в источниках не всегда имеются инициалы) подбили штабную машину, принесли в ДОТ портфель с документами, радиостанцию, автоматы, консервы. Самому же Еськову удалось подстрелить из засады на шоссе крупного немецкого офицера, ехавшего в открытой легковой машине. Восемь танков противника горели перед амбразурами четырех ДОТов под деревней Минчев, это была зона обороны 18-го батальона. Гарнизон ДОТа на околице деревни Речица (командиры младшие лейтенанты П.Селезнев и Н.Замин, старшина И.Рехин) неоднократно срывал точным огнем переправу гитлеровцев через Буг.
На подступах к ДОТам, где секторы огня накануне войны тщательно измерялись, фашисты большими цифрами исчисляли свои потери убитыми и ранеными. Всего 600 бойцов в ДОТах БУРа смогли задержать на несколько дней две дивизии Вермахта ‑ 167-ю пехотную дивизию южнее Бреста до 24 июня, а 293-ю дивизию ‑ до 30 июня.
А ведь каждый выигранный час был ценен, так как позволял быстрее перебрасывать войска Красной Армии, эвакуировать семьи офицерского состава, партийно-советско-комсомольского аппарата, сотрудников НКВД–НКГБ БССР, развертывать артиллерию, подвозить боеприпасы и горючее, организовывать вооруженные отряды из коммунистов и комсомольцев для борьбы с немецкими диверсантами и агентами.
Гитлеровские вояки делали все возможное, чтобы заставить замолчать ДОТы, освободить пути для своих войск и боевой техники. Они использовали то обстоятельство, что большая часть боеприпасов в ДОТах были израсходованы в первый день войны. Все реже стреляли орудия и пулеметы, все ближе подкатывались к ДОТам вражеские пушки. При прямых попаданиях снарядов и бомб в бетон укреплений воздух сотрясался так, что из ушей бойцов текла кровь. Люди теряли сознание. Но гарнизоны держались сутки, двое, неделю, вторую…. На рассвете 22июня они получили приказ: «Из ДОТов не выходить!». То есть, верная смерть. Но другого выхода в той обстановке, когда любой ценой необходимо затормозить рвавшиеся вперед войска Вермахта, не было.
Погибающие гарнизоны ДОТов верили, что их жертва будет не напрасна, что, в конечном счете, фашисты будут разбиты, и Красная Армия придет в Берлин, и их не забудут.
Уцелели единицы. Враг был отлично экипирован и жесток. Вот что писали об уничтожении гарнизонов ДОТов сами гитлеровцы ‑ военный инженер Вермахта: «Защитная труба перископа имеет на верхнем конце запорную крышку, которая закрывается при помощи вспомогательной штанги изнутри сооружения. Если разбить крышки одиночной ручной гранатой, то труба остается незащищенной. Через трубу внутрь сооружения вливался и поджигался бензин, во всех случаях уничтожавший гарнизоны». В отверстия кабельных вводов фашисты вставляли стволы огнеметов…. Делились опытом по уничтожению ДОТов и вражеские саперы: «150 килограммовый заряд, опущенный вниз через перископное отверстие, разворачивал стены сооружения. Бетон растрескивался по слоям трамбования. Междуэтажные перекрытия разрушались во всех случаях и погребали, находящийся в нижних казематах, гарнизон». Подрывники, поджигавшие бикфордовы шнуры, слышали, как из-под задраенных люков доносилось пение. Обнявшись, бойцы пели «Интернационал» (в то время официальный гимн СССР) и часто «Катюшу».
И, тем не менее, защитники многих ДОТов оборонялись по нескольку суток. Так, бои у деревни Семятичи, где находились позиции 17-го артиллерийско-пулеметного батальона, продолжались до 27 июня (5 дней). ДОТ № 06 у деревни Мацки, имевший четыре орудия, держался четверо суток под непрерывным артиллерийским обстрелом и даже бомбежкой немецких пикировщиков. Горнизон ДОТа состоял из младших лейтенантов Петриченко и Рощина, заместителя политрука Ф.И. Рябова, наводчиков пушек ‑ сержантов Васильева и Ляхова, бойца Жанжира (к сожалению, инициалы известны только одного защитника ДОТа). Всего шесть человек против полчищ Вермахта. Местные жители ночью приносили продукты, воду, доставляли снаряды. Когда закончились снаряды и патроны, отважные воины вывели из строя орудия и пулеметы и, воспользовавшись удачным моментом, ушли на восток, к фронту.
В трофейных документах 293-ей немецкой пехотной дивизии, которая восемь суток атаковывала ДОТы (до 30 июня) сказано: «У ДОТа в лесу западнее р. Каменка взят в плен политрук и, согласно приказу, расстрелян. Этот политрук принял на себя командование ротой, в том числе и управление подчиненными ей ДОТами… Этот политрук ‑ фамилия его Горичев (На самом деле, политрук В.Локтев) был душой сопротивления противника в этом районе».
В июле 1944 года в донесении из 65-й армии 1-го Белорусского фронта сказано, что возле села Анусино, на изрытом воронками бугре, советские солдаты и офицеры увидели старый взорванный ДОТ. На, усыпанном гильзами, полу у пулемета лежали тела двух человек. У одного документов не имелось, у другого «комсомольский билет № 11183470 на имя красноармейца К.И. Бутенко. Взносы уплачены по июнь 1941 года».[67]
Эти бойцы хоть на час, хоть на несколько минут, приблизили, ценой своих жизней, Великую Победу. Об этом надо помнить. Когда, где – либо в лесу или поле, Вам повстречается старый ДОТ ‑ отдайте дань памяти воинам.
Уже с первых минут войны гитлеровцы атаковали город Брест и старую, еще из кирпича, Брестскую крепость. Они обстреливали крепость из особо мощных крупнокалиберных орудий и сбрасывали с самолетов тяжелые бомбы. И, воспользовавшись неожиданностью, прорвались на территорию крепости. Наступление на крепость вела 45-я пехотная дивизия Вермахта, во взаимодействии с еще двумя пехотными дивизиями ‑ 31-й и 34-й. На их флангах действовало по две танковые дивизии. Немцы планировали захватить цитадель за несколько часов. Пехотная дивизия, непосредственно наступавшая на крепость, была усилена, для разрушения укреплений внутри крепости и подавления огневой мощью любого сопротивления, тремя артиллерийскими полками, девятью мортирами, батареями тяжелых минометов и сверхмощными осадными орудиями.
В направлении главного удара части Вермахта имели более чем 5-и кратное превосходство в людях и 2-х – 3-х кратное превосходство в танках, артиллерии и авиации. В 4-е часа утра крепость подверглась очень мощному артиллерийскому удару. На ее территории, каждую минуту, в ходе артобстрела взрывалось четыре тысячи снарядов и мин. Крепость стала огненным адом.
С нашей стороны в крепости находились семь батальонов 6-й и 42-й стрелковых дивизий, подразделение 33-го инженерного полка, бойцы 17-го погранотряда незанятые на заставах, а также некоторое количество приписанных военнообязанных и спецподразделений 4-й армии. Около половины бойцов и командиров, из этого количества, сумели, несмотря на огонь врага, вырваться из крепости и отойти к своим частям. В крепости осталось около трех с половиной тысяч военнослужащих, которые ее и обороняли. Их подвиг, стойкость и мужество хорошо сейчас известны всему миру и служат образцом для молодого поколения. В первый день штурма фашистам не удалось захватить крепость, как они рассчитывали, их ударные отряды наполовину поредели, а на многих участках вообще были отброшены или уничтожены в результате яростной контратаки и меткого огня защитников крепости. Однако в результате авиаударов и сильного артиллерийского огня вся материальная часть и почти все лошади артиллерийских частей 6-й и 42-й дивизий были уничтожены.
С 3-го июля организованная и управляемая оборона распалась на ряд изолированных очагов сопротивления. Последние очаги обороны находились на Центральном и Кобринском укреплениях. Оставшиеся в живых, защитники ушли в подвалы и казематы, где продолжали борьбу до 22 июля.
Стремясь любой ценой подавить обороняющихся, гитлеровцы 28 июня применили бомбардировку особо мощными авиабомбами: шесть «Юнкерсов» из эскадрильи «Kq‑3» сбросили 1800 килограммовые бомбы на крепость. До этого они бомбили защитников крепости достаточно мощными бомбами ‑ по 500 килограммов каждая, но не смогли подавить огонь защитников. Участник обороны крепости А.М. Никитин вспоминал: «Небо покрылось кроваво-красной пеленой, в которую вторглись черные столбы дыма, в воздухе пахло гарью. Вверх летели кирпичи, камни, земля, валились деревья, отдельных взрывов различить было невозможно, стоял сплошной гул, рушились здания». На одной из уцелевших стен каземата навсегда останутся в памяти народа начертанные штыком последние слова неизвестного героя: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина! 20.07.1941г.».
Но потери несли не только защитники крепости, но и солдаты, и офицеры Вермахта. Уже на 4-й день осады начальник генштаба главного командования сухопутных войск Вермахта Ф. Гальдер отметил в своем дневнике, что 45-я дивизия в районе Бреста понесла большие потери. Только за первые девять дней боев за крепость советские воины вывели из строя около полторы тысяч солдат и офицеров 45-й и 31-й дивизий Вермахта.[68]
Быстрой и легкой военной прогулки у войск нацистов явно не получилось, не смотря на очень большое неравенство сил и абсолютное преимущество в боевой технике.
Шли упорные бои и в самом Бресте. Молниеносного захвата города у гитлеровцев не получилось. Пришлось вести упорные бои, с применением артиллерии, минометов, танков. Ранним утром 22 июня работники областного военкомата, партийные, советские активисты и горожане создали отряд, в котором насчитывалось около 90 человек, во главе с областным комиссаром М.Я. Стафеевым. Он организовал круговую оборону здания областного военкомата. На вооружении отряда имелись карабины, винтовки, один ручной пулемет и гранаты. Прицельно бил по фашистским автоматчикам пулеметчик Г.К. Бараненков, уничтоживший многих захватчиков. Стафеев был ранен, но продолжал руководить обороной. Немцы подтащили артиллерию, и длительное время обстреливали здание. В результате артиллерийского огня был разрушен второй этаж здания. Многие, из находившихся там бойцов, погибли. Стафеев получил второе ранение. Отряд продолжал сражаться в полном окружении. Бой то затихал, то усиливался двенадцать часов. После гибели Стафова и большинства бойцов, оставшиеся в живых патриоты вечером с боем ушли из города.
Героически и стойко сражался отряд, быстро сформировавшийся на железнодорожном вокзале из работников милиции (Н.С. Филимоненко, К.И. Трапезников, П. Довженюк, Ф.И. Ермолаев, А. Жук, Середа, И. Поздняков, А. Головко, А.С. Артеменко и другие). Группа военных летчиков и технических специалистов из 74-го штурмового полка направлялась по служебным делам и вечером прибыла на вокзал. Это были: П.П. Баснев, А.Е. Русанов, В.Н. Галыбин, И. Горовой, Н.А. Ломакин, Ф.Д. Гарбуз, А.М. Сидорков и другие (данных о них нет). Ожидали в качестве пассажиров утренний поезд и бойцы-зенитчики. Всех военных возглавил старшина П.П. Баснев. Были среди этих бойцов и гражданские пассажиры. Всего, в образовавшемся отряде, насчитывалось около сотни человек. В отряд добровольно вступили 27 железнодорожников, которые вооружились винтовками и револьверами из оперативного пункта милиции вокзала. Для лучшей обороны бойцы спустились в подвальное помещение вокзала.
Началась многодневная оборона, которая продолжалась до 2-го июля. Гитлеровские войска 28 июня смогли захватить Минск, а гарнизон Брестского вокзала держался десять дней и активно воевал. Чтобы сломить сопротивление патриотов, гитлеровцы лили в подвалы бензин и забрасывали гранатами. Всех, кто пытался выбраться из горящих подвалов, расстреливали, в плен никого не брали. На пятый день фашисты стали угрожать применением газов, взрывали в подвалах химические гранаты. У многих обороняющихся не было противогазов. Спасались от удушья намоченной в воде марлей. Тогда, в бессильной злобе, нацистские вояки начали затапливать подвалы. Вода заливала отсеки. Когда гитлеровцы все же проникли в подвал, с ними в бой вступили все выжившие. Враг отступил, потеряв 13 солдат убитыми и ранеными. Но погибли в схватках с противником и многие члены отряда: Л.Д. Елин, А. Головко, П. Довженюк, И. Поздняков, И. Назин и другие, пока неизвестные. Когда кончились боеприпасы, не стало продуктов, было много раненых, отряд решил прорываться через вражеские заслоны к своим. На помощь пришли железнодорожники, хорошо знавшие, как лучше выбраться из подвалов и скрыться от врага. Выжившие защитники ушли в лес.[69]
Несмотря на весь массовый героизм пограничников, гарнизонов ДОТов, защитников Брестской крепости, областного военкомата и железнодорожного вокзала в Бресте, надолго задержать десятки дивизий группы армий «Центр» они не могли.
Драматические события развертывались 22 июня и в боях за господство в воздухе. Воспользовавшись слабостью наших ПВО, отсутствием надежной связи наших штабов с командованием трех смешанных авиадивизий (9-й, 10-й, 11-й) и полками авиации на аэродромах, скученностью наших самолетов на действующих аэродромах и отсутствием их маскировки, ВВС фашистов смогли уничтожить на земле 528 боевых самолетов, повредить взлетно-посадочные полосы, сжечь или взорвать многие склады с горючим и боеприпасами, убить или ранить сотни летчиков и техников. По данным зарубежных источников, в утреннем налете германских ВВС участвовало 775 бомбардировщиков, 310 пикирующих бомбардировщиков и 290 истребителей. Вызывает удивление малое количество немецких истребителей. Значит, при правильной организации, не на бумаге, а на деле, подготовки ПВО и ВВС пограничных округов к отражению нападения Вермахта, можно было нанести серьезные потери ВВС Германии. По имеющимся данным, Красная Армия в первый день войны потеряла в целом 1200 самолетов, из них 738 в ЗапОВО. ВВС группы армий «Центр» нанесли неожиданный удар утром 22 июня по 26 аэродромам.
Результат был ужасен. Только 9-я смешанная авиадивизия, расположенная в ЗапОВО, из 409, имевшихся к началу войны боевых самолетов, уже в первый день войны потеряла 347. В Пинске авиация немцев на аэродромах уничтожила большую часть бомбардировщиков.
Так что снятие с должностей, арест и расстрел осенью 1941 года по приговору военного суда Рычагова и Смушкевича, отвечавших за боевую подготовку и готовность советских ВВС к войне, были закономерны. И дело не только и не столько в том, что они спорили со Сталиным и резко высказывались, а в том, что они допустили такой разгром нашей боевой авиации. Они не приняли всех необходимых мер для усиления ПВО, готовности к отражению внезапного массированного удара противника, не проверили, выполняются или не выполняются их предвоенные приказы по рассредоточению самолетов и их маскировке. Как они выполняются. И там, где не выполняются, выяснить, почему не выполняются, и принять соответствующие меры для повышения боеспособности.
Горели и взрывались наши самолеты не только на земле, но и в воздухе в ходе ожесточенных воздушных боев. 22 июня ВВС ЗапОВО. Еще 210 самолетов потеряли в боях. Немецкая сторона ‑ 110 самолетов. На соотношение (два наших сбитых самолета на один немецкий) сказывался разный уровень подготовки воюющих летчиков и малое количество самолетов новых конструкций. Гитлеровские самолеты продолжали наносить удары день за днем по известным им, нашим аэродромам и усиленно вести воздушные бои. За первую неделю боев советская авиация потеряла свыше четырех тысяч самолетов. Внезапностью нападения это уже не объяснишь. Тут играли роль наши недостатки в подготовке ВВС к войне, о которых сказано ранее. Но росли и потери немецких ВВС. К 19-му июля 1941 года люфтваффе потеряли 1284 самолета. И это уже после наших потерь от сильного и неожиданного удара по аэродромам приграничных округов.[70]
Наши летчики сражались с врагом, в прямом смысле слова, не жалея себя, если закончились боеприпасы, иссякло топливо, горит самолет, они шли на таран, жертвуя собой ради победы над врагом. В первый же день войны, 22 июня, стремясь не допустить противника к бомбежке и обстрелу наших войск, пятнадцать советских летчиков осуществили таран. Из них семь были летчиками авиации ЗапОВО.
Вот краткая хроника их подвигов: В пять часов утра 22 июня летчик Д. Кокарев на западной границе сбил тараном немецкий самолет – разведчик, уходящий на свою территорию с отснятыми фото разведданными. В 5.20, отражая налет на Пружаны, сбил один «Хейнкель», а второй уничтожил тараном своего горящего самолета летчик-истребитель С. Гудилов. В 7.00 над аэродромом в Черепах возле Гродно, летчик А. Тарасов сбил два самолета немцев. Один из них сбит в результате тарана и ценой жизни. В 8.30 летчик П. Рябцев, израсходовав бое припасы, на своем самолете «И-153» врезался в «Мессершмитт». В 10.00 под Гродно старший политрук А. Данилов направил свой самолет на вражеский истребитель. В 17.00 над Гродно П. Кузьмин таранил самолет врага. Не будем придираться по поводу точности времени, оно явно округлено. Было не до деталей. Потрясает в этой хронике другое ‑ содержание. А что мы все знаем и помним об этих героях? К сожалению, эти люди и их подвиги малоизвестны. В лучшем случае, о них знают военные историки и, возможно, известно в том полку, в котором они служили и сражались с немецкими захватчиками.
Наносили ущерб войскам Вермахта (боевой технике и живой силе врага) и огненные тараны наших героев-летчиков с неба на землю. Как явствует из опубликованных сведений, 22 июня П. Чиркин, старший лейтенант, командир звена 62-го авиационного полка, через несколько часов после начала войны, направил свой горящий самолет на скопление вражеских танков и мотопехоты. Экипажи бомбардировщиков под командованием капитана А.С. Маслова (В.М. Балашов, Б. Бейскобаев, Р.В. Реутов) и капитана Н.Ф. Гастелло (А.А. Бурденюк, Р.М. Скоробогатый, А.А. Калинин) 26 июня недалеко от Минска, у населенного пункта Радошковичи, направили свои подбитые самолеты на войска и боевую технику противника и совершили наземные тараны.[71] 27 июня их подвиг повторил экипаж старшего лейтенанта И.З. Присайзина (П.Ф. Аникин, А.В. Баранов).
Они сделали все, что могли, чтобы остановить гитлеровцев и своим подвигом вошли в благодарную память народа. Их подвиги стали символом отваги, стойкости, самопожертвования, высшим испытанием на верность Отчизне.
Но, несмотря на весь героизм, самоотверженность наших летчиков, нанесение ВВС Германии немалых потерь, немецким летчикам удалось захватить господство в воздухе и усиленно его наращивать. Это срывало планы советского командования, способствовало быстрому продвижению танковых и механизированных частей Вермахта.
Возникает естественный вопрос о причине такого положения. Ответ попытаемся найти в цифрах советской статистики. Итак, перед началом войны ВВС СССР в целом насчитывали около двадцати тысяч самолетов разных типов, в основном устаревших. В приграничных округах насчитывалось до восьми тысяч самолетов. Удар по аэродромам 22 июня привел к потере, примерно, пятнадцати процентов от общего количества самолетов, хотя, в первую очередь бомбили аэродромы, где располагались новые модели истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Не надо недооценивать немецкую разведку, тщательность и достаточную полноту собранных разведданных. Но, даже после первого удара немецкой авиации, у советских ВВС, в приграничье, оставалось больше самолетов, чем у люфтваффе. Красная Армия имела 6,5 тысяч самолетов, а у люфтваффе, вместе с самолетами союзников, учитывая результаты воздушных боев, оставалось менее чем 4,7 тысяч. То есть, по численности, перевес советских самолетов был в полтора раза.
Если брать ВВС ЗапОВО и 2-й воздушный флот Германии, поддерживавший группу армий «Центр», то получается не такое уж большое неравенство по количеству самолетов на 23 июня 1941 года. ЗапОВО, потеряв 738 боевых самолетов, имел против себя 2-й немецкий флот, потерявший 110 самолетов. Получилось соотношение: 1094 самолета в ЗапОВО и 1358 самолетов у гитлеровцев. В ЗапОВО перебрасывалась боевая авиация из внутренних округов на замену сбитых в воздухе и сгоревших на земле, в результате бомбежки аэродромов. Однако, потери советской авиации росли. Так, за восемнадцать дней, с 22 июня по 9-е июля, до начала Смоленского сражения, ЗапОВО потерял 1177 самолетов. Причины: 38% уничтожены 22 июня; наличие на вооружении морально и технически устаревших самолетов, значительно уступавших немецким типам по тактико-техническим данным; невысокая боевая подготовка основной массы летчиков. Об этом четко констатирует Гальдер записью в своем дневнике 1 июля 1941 года: «Боеспособность русской авиации значительно уступает нашей вследствие плохой обученности летного состава…. Во время вчерашних воздушных боев над Двинском и Бобруйском, атаковавшие нас воздушные эскадры противника, были целиком или полностью уничтожены».[72]
Даже абсолютно правильное понимание политического момента, уверенность в конечной победе социализма, ненависть к нацистским захватчикам и горячая любовь к Родине не могли компенсировать слабых знаний, отсутствие летного опыта, нехватки часов налета и точного поражения мишеней. Пришлось долго учиться в реальных воздушных боях и платить за эту учебу кровью. И здесь менее всего виноваты сами летчики, а больше те, кто так их готовил в училищах, кто командовал в полках и дивизиях, кто красиво отчитывался и пламенно выступал на различных собраниях. От «Мессершмиттов» и «Юнкерсов» за бумагами не спрячешься, а недостатки и провалы в обучении и действиях вылезут сами, только беды из-за них, горя и вынужденного отступления летом 1941 года будет много.
Итогом стал проигрыш битвы за господство в воздухе. В своем дневнике командующий 2-м воздушным флотом Вермахта А. Кессельринг писал: «Воздушная молниеносная война удалась полностью! …Немецкий стальной танковый каток беспрепятственно движется на Минск».[73]
Что еще предопределило, кроме названных недостатков и упущений, поражение нашей авиации? Здесь несколько причин. Во-первых, неэффективность организации противовоздушной обороны аэродромов. Во-вторых, отсутствие взаимодействия с наземными частями. В-третьих, очень слабое обеспечение связи, как проводной, так и, особенно, радиосвязи. В-четвертых, лучшая координация действий немецких истребителей с бомбардировщиками и с наземными штабами. Наша же авиация часто действовала, не видя противника, бездарно расходуя и топливо, и моторные ресурсы. Немцы же создавали локальное превосходство в зоне боев, нередко добиваясь успеха.
Но это все об авиации. А как обстояло дело у сухопутных войск? В первом эшелоне войск Вермахт использовал 44 дивизии, которым противостояли наши 26 дивизий первого эшелона обороны, остальные находились во втором эшелоне и были рассредоточены в 300‑400 километров от границы. В резерве группы армий «Центр» было три дивизии, а в ЗапОВО ‑ 15 дивизий второго эшелона. Другое дело, где и как эти дивизии были размещены, и, когда могли вступить в бой. Ряд дивизий ЗапОВО были в стадии формирования и не представляли реальную боевую силу. И такое положение было не только в ЗапОВО, но и в Киевском, Одесском, Прибалтийском особых военных округах. Если у немцев в первом эшелоне шли около ста дивизий Вермахта, то у Красной Армии находилось пятьдесят шесть дивизий. Во втором эшелоне у немцев было 57 дивизий. Им противостояли 52 дивизии Красной Армии. Кроме того, по численности личного состава две дивизии Красной Армии были, примерно, равны одной немецкой дивизии.[74]
Наряду с этим, большое влияние на ход и исход боевых действий оказало уничтожение авиацией Вермахта складов с горючим, боеприпасами, военной амуницией, оружием, запасными частями к боевой технике, медикаментов и медицинского оборудования. На быстро захваченной нацистами территории СССР, по состоянию на 22 июня, располагались, слишком близко к границе, 200 складов, что составляло 52% окружных складов и складов Наркомата обороны, находившихся в приграничных округах. В ЗапОВО таких складов и баз в приграничной зоне насчитывалось более шестидесяти. К 29 июня на территории, занятой врагом, осталось десять артиллерийских, двадцать пять с горюче-смазочными материалами (ГСМ), четырнадцать продуктовых и три бронетанковых склада, которые находились в зоне от 30 до 100 километров от границы. Часть из них при отступлении советских войск были либо взорваны и сожжены, либо просто брошены. Фронт потерял от 50 до 90 процентов, созданных в мирное время запасов. Общие потери Западного фронта (ЗапОВО был преобразован в Западный фронт 22 июня 1941 года) к этому времени составляли: боеприпасов более двух тысяч тонн или 30% всех запасов; горюче-смазочных материалов более 50 тысяч тонн; продовольствия, фуража ‑ 50%; вещевого имущества 400 тысяч комплектов или 90% запасов. Потери инженерного, обозно-хозяйственного, медико-санитарного имущества достигли 85‑90% запаса фронта.
Что значила для войск 4-й армии потеря 22 июня города Бреста? Брест был основным пунктом хранения запасов для частей и подразделений этой армии, и не только для нее. В Брестской крепости находились склады 6-й и 42 стрелковых дивизий, а также 447 корпусного артиллерийского полка. На Южном острове располагались склады 22-й танковой дивизии (хранились два ее боекомплекта) и только один комплект был в самой дивизии. Остальные склады этой дивизии находились в самом городе. Там же в городе были два склада 4-й армии № 821 и № 1321, также склады округа с боеприпасами и горючим, 970-й склад окружного автобронетанкового имущества, продовольственный склад округа № 821.[75]
Как могла 4-я армия успешно воевать, потеряв всего за один день такие запасы? А как мог активно противодействовать вторгшимся гитлеровским войскам Западный фронт, потерявший за восемь дней войны многие десятки складов с боеприпасами для танков и авиации, практически без горючего, без медикаментов для многих тысяч раненых? Да, были и резервные склады в ЗапОВО, но они находились за сотни километров, и их запасы надо было перевезти и доставить до войск автотранспортом или по железной дороге, так как транспортной авиации практически не было, а речной транспорт был привязан к руслам рек. Вражеская авиация, десятки диверсионных групп гитлеровцев усердно и методично охотились за автомобильными колоннами и железнодорожными составами, бомбили и расстреливали все, что двигалось. Так что надо поклониться низко и с благодарностью тем людям, которые прорывались через эту смертельно опасную завесу огня и, хотя бы частично, обеспечивали воинские части, ведущие тяжелые бои с дивизиями Вермахта.
Немалую роль в успешном продвижении группы армий «Центр», в первые дни и недели войны, сыграли также действия диверсионно-разведывательных групп и отрядов Вермахта. Готовясь к нападению на СССР, руководство Вермахта, с целью подготовки разведчиков и диверсантов, сформировало в 1940 году специальную часть под кодовым названием «Учебный полк особого назначения «Бранденбург‑800», который подчинялся одному из высших офицеров «Абвера» (военная разведка и контрразведка Абвера) П. Лахунзену.
За неделю до войны с СССР немецкое командование приступило к осуществлению переброски на советскую территорию большого количества диверсионно-разведывательных отрядов и групп, а также диверсантов-одиночек. Все диверсанты имели задание ‑ разрушать линии телеграфно-телефонной связи, взрывать мосты, железнодорожное полотно, уничтожать воинские склады и другие важные объекты, захватывать в тылу советских войск железнодорожные и шоссейные мосты и удерживать их до подхода передовых частей Вермахта, обеспечивая, таким образом, основным силам вторжения немцев беспрепятственное и быстрое движение вперед, через водные преграды и по хорошим дорогам и шоссе.
В ночь с 21 на 22 июня гитлеровская разведка на ряде оперативных направлений забросила через границу наземным и воздушным путем значительное количество мелких диверсионных групп, переодев диверсантов в форму военнослужащих Красной Армии, и снабдив их фальшивыми документами. Почти все диверсанты владели русским языком. Их набирали из среды выходцев из Прибалтийских республик, украинских и белорусских националистов, белоэмигрантов, фольксдойче (частично по происхождению немцы), выпускников специальных разведывательных школ различных курсов, студентов-немцев, обучавшихся на факультетах или кафедрах славянских языков. Нередко диверсанты были одеты в гражданскую одежду или форму сотрудников органов милиции, госбезопасности, и железнодорожников. В первую очередь, диверсанты захватывали мосты. В ночь на 22 июня абвергруппы полка «Бранденбург‑800» появились на участках Августов–Гродно–Колынка–Рудинки–Сувалки и захватили десять стратегических мостов. Это был район расположения 3-й и 10-й советских армий. Не забыли и о 4-й нашей армии. За десять минут до начала артиллерийской подготовки немецкий спецназ захватил все шесть мостов через Буг (два железнодорожных и четыре автомобильно-гужевых) и обеспечили беспрепятственное продвижение частей 12-го армейского корпуса немцев к Бресту в обход наших войск. Диверсанты захватили также три моста через Неман.
Выброска диверсантов на нашу территорию носила массовый характер. В ночь на 22 июня в районе Радуни и Наги действовал парашютный десант, в количестве до тысячи человек. Значительные силы целого полка диверсантов «Бранденбург-800», разделенные на множество небольших групп, приступили к повреждению линий связи, уничтожению командного состава советских частей, находящихся в городах и поселках невдалеке от расположения своих подразделений.
Из-за беспечности наших железнодорожных органов и органов госбезопасности, из-за отсутствия действительной, а не показной бдительности, немецкое командование сумело перебросить эшелоны с запломбированными вагонами на станцию Брест ‑ Западный. По некоторым данным, эти вагоны были с двойным дном. В вагонах были солдаты и офицеры Вермахта, которые заняли станцию, оказавшись таким образом, в тылу и пограничников, и воинских частей крепости. В результате, к утру 22 июня вокзал, был в руках немцев.
Немецкие диверсанты перерезали и вывели из строя многие линии связи, что нарушило управление штабами частей и соединений (в частности, 4-й армии со штабом ЗапОВО), с командованием дивизий и механизированных корпусов. В Белостоке была выведена из строя центральная станция телефонно-телеграфной связи, которая обеспечивала связь между частями 10-й армии. В Кобрине, где располагался штаб 4-й армии, была организована авария электростанции. Другие диверсионные группы парализовали работу штаба ЗапОВО, вырезав десятки метров проводов и во многом лишив командование округа связи с армиями.[76]
Но была же еще и радиосвязь! Да, радиостанции были, но в небольшом количестве. Но и они нередко находились в неисправном состоянии: не было питания, боялись на них работать, не хватало и шифровальщиков. Надо отдать должное немецкой стороне. Немцы создали эффективную службу радиоразведки. Они перехватывали наши сообщения, расшифровывали их, немедленно передавали результаты заинтересованным штабам. Доходило до того, что они по радио отдавали ложные приказы нашим, отступающим или выдвигающимся, частям, подводили их под удары авиации, танков, артиллерии Вермахта. Поэтому связь, управление войсками, информацию о положении частей, часто осуществляли через офицеров связи, которые искали и прорывались к нужным им штабам, или при помощи, хоть и малочисленных, самолетов связи типа У-2. За теми и другими постоянно и усердно охотились и диверсионные группы Абвера, и вражеские истребители. Обстановка менялась не только ежедневно, но и нередко ‑ ежечасно, что сильно затрудняло действия войск Красной Армии без воздушного прикрытия, без надежной и постоянной связи с командованием.
Почему немцы в первые же дни и недели войны смогли захватывать важные объекты, типа мостов, и нарушать работу узлов связи? Дело было не столько в высокой выучке и опыте немецких диверсантов, сколько в явной недооценке нашим военным командованием и органами госбезопасности важности их надежной охраны, в самоуспокоенности, в слабом контроле за выполнением инструкций по охране объектов, в малой численности самой охраны, в отсутствии здоровой недоверчивости. Когда эти недостатки в июле-августе были, в основном, изжиты, то успехи у немецких диверсантов закончились.
Десятки истребительных батальонов из добровольцев и под командованием офицеров НКВД быстро навели военный порядок и усилили бдительность в не оккупированных врагом районах Белоруссии при всемерной поддержке населения и при последовательном проведении антидиверсионных мероприятий.
Следует учитывать и влияние на настроение населения в Западной Белоруссии, которое ощутило на себе четыре принудительных массовых депортаций местных жителей, как разных национальностей, (во многом это были поляки), так и по классовым и социальным признакам в 1939‑1941 годах. Это не могло не настраивать многих людей против советской власти, против Красной Армии, в поддержку гитлеровцев, которые говорили, что они ведут борьбу только против жидо-большевиков, энкэведистов и комиссаров. Такие настроения позволяли немецкой разведке использовать недовольных советской властью в получении разведывательных данных и проведении диверсий. Так, по подсчетам белорусского историка А.Ф. Хацкевича, из западных областей Белоруссии до 20-го июня 1941 года было вывезено в Сибирь, Казахстан, Заполярье и другие регионы СССР более 120 тысяч человек, из них 45 тысяч поляков. По мнению белорусского историка М.П. Костюка, количество репрессированных в западных областях республики, в период с сентября 1939 года по июнь 1941 года, составило около 150 тысяч человек, без учета военнопленных польской армии, в которой служили и уроженцы Западной Белоруссии, и без беженцев.
Четвертая массовая депортация людей из западных областей БССР была проведена всего за два дня до начала войны 19‑20 июня. Последние эшелоны депортированных прошли через Минск 22 июня, когда уже шла операция «Барбаросса».[77]
Все это не могло не ослаблять тыл Красной Армии в Белоруссии, не сказываться на массовой поддержке здесь местным населением советских воинов.
Каким же образом происходили решающие бои в первые дни войны, учитывая крайне сложную и очень трудную обстановку для советских войск? Надо учитывать, что войска Вермахта действовали, собранными в два «кулака»: первый, ‑ это 2-я танковая группа из девяти танковых и моторизованных дивизий, под командованием Г. Гудериана, при опоре на 2-ю армию из пехотных дивизий, второй ‑ 3-я танковая группа под командованием Г. Гота из семи танковых и моторизованных дивизий, опиравшихся на 9-ю армию из пехотных дивизий. Одна группировка нанесла главный удар на Брестско‑Барановичском направлении, а другая ‑ на Гродненско‑Молодечненском. Части же Красной Армии не имели единого плана обороны, поэтому действовали довольно разрозненно, образно говоря, «действовали одними пальцами против двух мощных кулаков», к тому же в условиях сильно нарушенного управления советскими соединениями в результате деятельности диверсантов и авиации противника. Плюс ко всему, горели и были подорваны многие воинские склады, так нужные сражающейся армии. В результате, командование Вермахта и группы армий «Центр» смогли создать большой перевес в силах против наших армий – 4-й и 3-й, которые находились на флангах у Белостокского выступа, занимаемого 10-й армией, и начать их окружение.
На Брестско‑Барановичском направлении, шириной в 100 километров, противник превосходил наши войска в живой силе почти в четыре раза, по танкам в 1,5 раза, по количеству артиллерии и минометов почти в три раза, в самолетах в 1,5 раза. Против четырех стрелковых дивизий и 14-го мехкорпуса наступали десять дивизий врага, в том числе, четыре танковых в первом эшелоне, а во втором ‑ еще две пехотные, одна танковая и три моторизованные. Советские дивизии – 42-я и 6-я, подверглись ударам авиации и сильному артиллерийскому обстрелу и понесли потери в боевой технике и личном составе, что не позволило им занять полосы обороны границы. Не выдержав сильных ударов противника, обе дивизии стали отступать, оголяя левый фланг 10-й армии.
К сожалению, заверения командующего ЗапОВО Павлова о наличии у него необходимых резервов в тылу первого эшелона войск были пустословием, хотя резервы и были, но в 300‑400 километрах от границы. Парировать прорыв вражеских танков и мотопехоты было нечем. Уже вечером 22 июня немцы овладели Кобрином, где до войны находился штаб 4-й армии, в 60-и километрах от границы. Утром 24 июня танки Гудериана заняли Слоним, почти в 200-х километрах от границы, а 25 июня, на четвертый день войны, гитлеровские войска вышли на старую государственную границу (1939-го года) и создали угрозу Минску. На Гродненско-Молодечненском направлении обстановка была не лучше. Танковый «кулак» и здесь прорвал оборону войск Красной Армии. Против трех стрелковых дивизий и 11-го механизированного корпуса 3-й армии и 3-го механизированного корпуса Северо-западного фронта действовали одиннадцать дивизий Вермахта, в том числе, семь танковых и моторизованных группы Гота. Резервов же у Западного фронта и на этом направлении не было. Сил на то, чтобы остановить или хотя бы задержать прорвавшиеся танки и мотопехоту противника, не имелось. Без боя 24 июня немцами был взят Вильнюс, а 25 июня они вышли к Молодечно. До Минска оставалось менее ста километров.
Зная положение в целом, задаешься вопросом: а как же сражались наши войска в эти решающие дни июня 1941 года? Они остались почти без боеприпасов и боевой техники. Примерно в 12 часов дня самолеты люфтваффе разбомбили два окружных артиллерийских склада, а вечером того же дня, при отступлении из Кобрина, были взорваны крупные склады горюче-смазочных материалов (ГСМ). В войсках было по одному боекомплекту на орудие или танк, автомашины и танки имели не более одной заправки. Как воевать? Уже на второй (!) день войны в донесении командования 3-й армии в штаб Западного фронта, поступившего в 22 часа, говорилось, что войска дерутся без транспорта, нет горючего, с недостатком вооружения стрелковых частей. Только в дивизии, под командованием полковника Николаева. не хватало 3500 винтовок, необходим был срочный подвоз всего силами и средствами фронта. При оставлении Гродно 23 июня, уцелевшие от бомбовых ударов авиации противника, мосты и склады взорвали. Вот когда, где и как сказалось то, что личный состав некоторых частей ЗапОВО был укомплектован только на 37‑71 процент от обычного штата округа того времени. Обеспеченность тыловых служб транспортом составляла всего 40‑45 процентов; из шести механизированных корпусов в ЗапОВО только один имел полное материальное оснащение (6-й мехкорпус), а на складах, недалеко от границы насчитывалось восемь миллионов винтовок, которые были захвачены немцами.[78]
Героические и самоотверженные бои пограничников, гарнизонов ДОТов, Брестской крепости, наносившие чувствительные потери атакующим войскам Вермахта, вскрытие «красных пакетов», во многих частях и соединениях, отражение, пусть и частичное, воздушных атак авиации противника, давали, в принципе, командованию Красной Армии возможность отвести основную массу войск, перейти к обороне, создать сплошной фронт и стабилизировать его, а контратаками мехкорпусов купировать прорывы танковых и механизированных дивизий противника. Но, к большому сожалению, в Москве взяли верх довоенные представления о действиях Красной Армии, и было принято решение воевать на основе разработанных до войны планов, которые не учитывали резко изменившуюся обстановку и стремительное продвижение ударных группировок нацистов. Уже вечером 22 июня Нарком обороны Тимошенко, с согласия Сталина и начальника Генштаба Жукова, дает роковую директиву № 3 о быстрейшем переходе наших войск в контрнаступление всеми силами в направлении Бреста и Гродно, не имея достаточной информации о положении и наших войск, и войск противника, о наших потерях и реальной ситуации на фронте. Все определяла сталинская стратегия решающего контрудара и переноса боевых действий на территорию агрессора, уничтожения вторгшихся ударных группировок Вермахта. В Москве в очередной раз преувеличивали наши силы и приуменьшали силы врага. За эту «мудрость Кремля» пришлось долго и тяжело расплачиваться.
Однако, приказы высшего военного командования подлежат выполнению, а не обсуждению. Выполняя приказ, советские войска 23‑24 июня в районах Бреста и Гродно нанесли контрудар. Четырнадцатый мехкорпус и 6-я кавалерийская дивизия на Брестском направлении имели 500 танков, из числа которых почти все были старых типов, а на Гродненском направлении 11-й, 3-й и 6-й мехкорпуса и 36-я кавалерийская дивизия имели 1085 танков, в том числе современных типов ‑ 114 КВ и 238 Т-34. Но это мало помогло: остро не хватало автотранспорта, бензозаправщиков, ремонтных подразделений, достаточного и своевременного подвоза боеприпасов и ГСМ. В составе танковых частей мало было мотопехоты и артиллерии, слабое зенитное прикрытие, плохо налажено взаимодействие с пехотой, артиллерией, авиацией. Несмотря на недостатки в руководстве войсками и недостатки в обеспечении частей, танкисты и кавалеристы сражались храбро и упорно, хотя и не всегда умело.
На Брестском направлении, в районе Пружан, 30-я танковая дивизия сдерживала в течение суток две немецкие дивизии из 2-й танковой группы. Части же 22-й танковой дивизии в районе Жабинки смелым контрударом разгромили большую колонну фашистских войск. Отличились артиллеристы. Так, 235-й артиллерийский полк 75-й стрелковой дивизии подбил, недалеко от города Молодечно, 21 вражеский танк и бронетранспортер, уничтожил до 600 гитлеровских солдат и офицеров. 204-й гаубичный полк, в бою под населенным пунктом Домачево, уничтожил 18 вражеских танков и бронемашин, до батальона пехоты.
В жестоких боях несли серьезные потери и советские танкисты, так как им противостоял сильный и опытный враг, опирающийся на мощную воздушную поддержку. Если во время самой атаки потери в 30-й танковой дивизии составляли 30% танков и погибли три командира батальонов и пять командиров рот, то после авиаударов фашистов танки просто до позиций врага не дошли. Успешно контратаковала гитлеровские танковые части и имела значительный успех 30-я танковая дивизия, но атакованная с воздуха понесла значительные потери в материальной части и людях. Как докладывал командир дивизии. «В обоих танковых полках осталось всего 120 танков. Еще один день таких боев и дивизия кончится. Необходимо срочное пополнение запасов ГСМ и боеприпасов, в машинах осталось меньше трети заправки горючего, боеприпасы в значительной степени израсходованы. Наши подбитые танки следует считать совершенно потерянными, если за гитлеровцами осталось поле боя. Но они могут эвакуировать свои танки и скоро мы сможем встретить их снова в бою».
На Белостокско–Гродненском направлении контрудар смог нанести только 6-й мехкорпус, так как 3-й мехкорпус был разбит в бою с 3-й танковой группой Гота. Части одиннадцатого мехкорпуса находились 40‑70 километров южнее Гродно, были втянуты в бои с немецкими войсками и понесли тяжелые потери. К вечеру 28 июня в корпусе осталось около тридцати танков, и 600 человек личного состава. Шестой мехкорпус прорвался к Гродно, но уже к вечеру 23 июня стали заканчиваться запасы горючего и боеприпасов. К тому же противник бросил на соединения корпуса пикирующие бомбардировщики и подтянул противотанковую артиллерию. Корпус завяз в боях вокруг города. Когда боеприпасы и горючее кончилось, танкисты стали уничтожать свои машины, чтобы они не достались врагу. 25 июня враг перешел в наступление и расчленил части корпуса. Так закончилось сражение, трех неукомплектованных стрелковых дивизий 3-й армии и механизированного корпуса, с шестью немецкими пехотными дивизиями, имевшими сильную противотанковую оборону. Вечером 25 июня советские войска начали отступать.
Но не только советские части и соединения несли потери. Гитлеровцы тоже получили ответный удар. В районе Лиды (в то время Белостокская область) 8-я противотанковая бригада сумела уничтожить до 60-и танков и до 28 июня сдержать 12-ю танковую дивизию Вермахта. Контрудар под Гродно сделал свое дело. Фашистскому командованию пришлось перебросить туда два армейских корпуса, повернуть некоторые части 3-й танковой группы, отвлечь от других целей несколько авиасоединений. Другое дело, как была использована, задержка на несколько дней значительных сил врага командованием Западного фронта.
Проанализировав обстановку, командование 10-й и 3-й армий запросило у Москвы разрешения на отвод войск, которое было получено уже вечером 25 июня. Для отступления советских войск оставался относительно узкий коридор в пятьдесят километров (Скидель‑Волковыск), да и по нему наши части и соединения могли отступать, только ведя, фланговые и арьергардные, бои с преследующим противником. К вечеру 28 июня дивизии немцев, которые наступали от Гродно на юг и на север, соединились в районе деревни Крынки на реке Свислочь и отрезали пути отхода. Из состава окруженных армий (22 дивизии на 22 июня) отход на восток смогли продолжить только четыре стрелковые дивизии, одна танковая и одна кавалерийская ‑ всего шесть дивизий. Остальные части 3-й и 10-й армий продолжали сражаться в окружении, пока были боеприпасы и медикаменты.
В ходе боев они отдельными группами и частями прорывались к Бобруйску, Гомелю, Смоленску. В конце июля в районе Речицы вышла крупная группа советских войск под командованием В.И. Кузнецова, возглавлявшего 3-ю армию. Свыше тысячи бойцов и командиров, вырвались из окружения под Смоленском, в отряде заместителя командующего Западным фронтом генерал-лейтенанта И.В. Болдина. Где-то в августе прорвалась и небольшая группа штаба 10-й армии во главе с командующим армией генералом К.Д. Голубевым. Группа офицеров во главе с командиром 11-го механизированного корпуса генералом Д.К. Мостовенко, 14 июля перешла линию фронта в 30-и километрах южнее Бобруйска. Ряд частей, окруженных в районе Белостока и Гродно и оказавшихся в тылу врага, перешли к партизанским действиям. Известно, что часть окруженных воинов организовали на оккупированной фашистами территории партизанские отряды. О некоторых из них будет рассказано в одной из глав последующих книги. Сотни военнослужащих, установив контакты с местными патриотами, сами создавали подпольные организации или участвовали в подпольных организациях. Но десятки тысяч растерянных и деморализованных, часто раненых или контуженых, попали в плен. Их ожидали страшные испытания ‑ голод, холод, болезни, массовые расстрелы. О судьбе военнопленных в нацистском плену также будет дана информация.
На Брестско‑Барановичском направлении понесшие тяжелые потери и разбитые части 4-й армии продолжали отступать под непрекращающимся натиском девяти танковых и моторизованных дивизий 2-й танковой группы Гудериана. Они не смогли создать оборону у Баранович и к 27 июня отступили на 20 километров севернее Барановичей. В тот же день гитлеровцы захватили Слуцк и двинулись к Бобруйску. А где же были дивизии второго эшелона округа, которые выдвигались к границе? Они еще не были отмобилизованы, у них было мало артиллерии и почти не было танков. Не смогли их прикрыть и с воздуха, в связи с очень большими потерями в авиации и им пришлось вступать в бой с двумя танковыми группами Вермахта и двумя полевыми пехотными армиями, при господстве немецкой авиации в воздухе. Снабжение обеспечивалось с уцелевших складов, при незначительном количестве автотранспорта для перевозки бойцов. Очень мало было радиостанций, проводная связь почти не работала, управление боевыми подразделениями было нарушено, действовали без всякого плана, в бой вступали разрозненно ‑ по одной ‑ две дивизии, там, где бои им навязывал противник. В результате, к концу июня, и эти войска были разбиты и вынуждены отходить на северо-запад к Витебску, Полоцку, Орше, а также на юго-восток ‑ к Борисову, Бобруйску, Могилеву, Гомелю, Мозырю. Начались бои за Минск, крупнейший узел транспортных коммуникаций и промышленности, хозяйственный и политический центр БССР. К Минску отходили части 4-й, 3-й, 10-й, 13-й армий, вырвавшиеся из Белостокско-Гродненского окружения и с Брестско‑Барановичского направления. [79]
В приграничных сражениях главных сил Вермахта и Красной Армии в Белоруссии в июне 1941 года, при примерном равенстве сил, советские войска проиграли и на земле, и в воздухе. Причины поражения в следующем: во-первых, слабая организованность обороны на деле, а не на словах и в докладах; во-вторых, ошибочные представления о характере и темпах военных операций, недооценка врага и переоценка собственных сил и возможностей; в-третьих, нежелание или неумение упорно, систематизировано и ежедневно работать над исправлением выявленных упущений и ошибок; в-четвертых, резко отрицательное влияние массовых политических репрессий, в том числе в командном составе Красной Армии, на уровень подготовки командного состава и значительном снижении разумной инициативы и боеготовности; в-пятых, разница, и не в нашу пользу, боевой выучки, четкой организации в военном деле, нацеленности на конечный результат; в ‑ шестых, вера в желаемое, а не в действительное положение вещей, самоуспокоенность, преклонение перед теорией классовой борьбы и недостаточный учет влияния немецкого национализма и шовинизма, звериного антисоветизма.
Эти причины сказывались и в дальнейшем. Медленно, трудно изживались военные и идеологические заблуждения и ошибки политического и военного руководства СССР.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
К середине дня 25 июня ударные передовые части Вермахта вышли на подступы к Минску. Это было следствием, как поражения советских войск, в приграничном сражении, так и разгрома, вступающих в бой поодиночке, без конкретного плана, без связи, без четкого командования дивизий, второго эшелона частей Западного фронта. Отступали к Минску, и сохранившие управление, отдельные соединения 4-й, 3-й, 10-й армий, но они явно проигрывали танковым и моторизованным дивизиям Вермахта в скорости передвижения и по времени отхода на новые позиции, да еще под непрерывными ударами немецкой авиации, нанесшей огромные потери нашим ВВС. Всего за несколько дней гитлеровцы смогли захватить почти всю западную часть Белоруссии. Развернулись упорные бои в центральной части республики у Минска, Борисова, Бобруйска, Полоцка, Витебска.
Главные силы группы армий «Центр» были задействованы на Минском направлении, так как это был кратчайший путь к Смоленску и далее ‑ к Москве. Это являлось по плану «Барбаросса» основной целью блицкрига ‑ «молниеносной войны» для победы над СССР и залогом вступления в войну, на стороне гитлеровской Германии, Японии и Турции на дальневосточных и южных рубежах Советского Союза. Так Белоруссия в 1941 году оказалась в эпицентре мировой геополитики и от того, что и как здесь произойдет в летние месяцы, зависело многое и для СССР, и для нацистского Третьего рейха, и для дальнейшего хода всей Второй мировой войны. Немедленно помочь защитникам Минска у командования Западного фронта и у Москвы, возможности не было. Требовалось воевать теми силами и средствами, которые были в наличии и сдержать, или, как минимум, нанести серьезные потери и замедлить продвижение вражеских дивизий, стальной, неудержимой лавиной движущихся вперед. Жестокая, кровавая, тяжелая борьба шла не только за каждый день, но за каждый час. Да, были свежие силы Красной Армии. Это 16-я армия, а также дивизии 19-й, 20-й, 21-й и 22-й армий), которые накануне 22 июня были сосредоточены на Украине. Но для их переброски на Западный фронт, в Белоруссию, требовалось время, которым командование Красной Армии не располагало. Поэтому, как ни страшно, как ни горько, но жизненно необходимо было держаться, имевшимися силами, и стоять насмерть, понимая, что остановить врага, а тем более разбить его, пока нет возможности. Но другого выхода не было -иначе господство «тысячелетнего» рейха нацистов, смерть миллионов и рабство оставшихся в живых советских людей, в том числе белорусов. Многие тысячи бойцов и командиров Красной Армии погибли, десятки тысяч ранены или попали в плен в этих смертельных боях конца июня ‑ середины июля 1941 года.
Наступали 2-я и 3-я танковые группы Гудериана и Гота, а это 16 танковых и моторизованных дивизий, 33 пехотных дивизий 2-й и 9-й армий Вермахта. Мало того, с 26 июня целиком против Западного фронта задействована группировка противника в количестве одиннадцати дивизий, прорвавшихся на левом крыле Северо-западного фронта. Общее количество дивизий врага достигло 60-и. Еще 7‑8 дивизий противника выдвинулись из резерва главного командования сухопутных сил Германии. И вся эта махина военной машины Вермахта вела сражение с восемнадцатью дивизиями второго эшелона фронта. В Генеральном штабе Вермахта и в ставке фюрера тоже отлично понимали значение Минска, поэтому и кинули такие силы.
Что могли противопоставить немцам защитники Минска и Минского направления? Оборона возлагалась на еще формирующуюся, 13-ю армию, на ее два корпуса – 44-й и 2-й стрелковые корпуса. В 44-й корпус входили 64-я 108-я стрелковые дивизии, которых война застала во время переброски по железной дороге. Еще одна дивизия следовала из Могилева в Минск. Эти дивизии должны были прикрыть город с запада. С северного направления столицу должны прикрывать 161-я и 100-я дивизии, но 161-я все еще двигалась в Минск. Только к вечеру 25 июня 64-я и 108-я дивизии заняли рубежи на западных подступах к Минску, а 26 июня они вышли на выделенные им позиции. В Красном Урочище шло, с марта 1941 года, формирование 26-й танковой дивизии 2-го механизированного корпуса. Таким образом, к началу боев под Минском находились четыре стрелковых дивизий и одна танковая неполной численности.
Кроме них Минск обороняли 7-я отдельная зенитно-артиллерийская бригада Западной зоны ПВО, подразделения 42-й бригады конвойных войск НКВД СССР, 7-й отдельный зенитный дивизион из состава 7-й танковой дивизии, дислоцировавшейся под Белостоком. Зенитчики прибыли в Минск только 25 июня из летних лагерей. Кроме того, активное участие в обороне города приняли артиллеристы 49-го корпусного артиллерийского полка, пограничники Дзержинского погранотряда, работники военно-технического склада № 11 погранвойск НКВД, межокружной артиллерийской оружейной мастерской НКВД и другие формирования. Имелась у Минска, и своя ПВО ‑ город защищали восемь двухорудийных зенитных батарей. Однако, основная часть 7-й бригады ПВО в начале июня была выведена в летние лагеря для боевой учебы в район Крупок. Но тут были и свои недостатки: не хватало командиров ‑ зенитчиков для формирующихся бригад ПВО и их вынуждены были готовить по ускоренной программе; новое зенитное вооружение к началу войны только начало поступать; зенитно-артиллерийские части Западной зоны ПВО находились только в процессе переформирования ‑ они не были обеспечены личным составом и материальной частью в полной мере, в том числе радиолокационными станциями РУС-1 и РУС-2 для стрельбы по ненаблюдаемым целям. Когда обстановка в районе Минска стала угрожаемой, зенитная бригада, вернувшаяся в Минск 25 июня, на следующий день, в самый разгар боев за Минск, получила приказ об отходе и отошла к городу Борисову.[80]
Интересно, кто из штаба Западного фронта отдал такой, на наш взгляд, предательский приказ, оставив беззащитный город на разрушения, пожары, гибель и ранения тысяч минчан от фашистских бомбардировок? И опять всплывает острый вопрос ‑ что это, растерянность и паника, или злой умысел группы военных заговорщиков в штабе фронта. Четкого и ясного ответа, нет и до настоящего времени ‑ «молчат» архивы НКВД‑НКГБ. Есть отдельные сведения, что в мае 1941 года органы государственной безопасности начали следствие и аресты ряда видных военных по делу об организации заговора. Но с началом войны оно было прекращено, ряд арестованных выпущено, а уже в перестроечные времена данное дело было принято считать сфабрикованным.
Кое-что раскрывают, чудом просочившиеся в прессу в 1991 году, показания бывшего начальника Генерального штаба Красной Армии К.А. Мерецкова, от 12 июля 1941 года: «Павлов неоднократно в беседах со мной высказывал свое резкое недовольство карательной политикой советской власти, говорил о происходящих, якобы, в Красной Армии «избиениях» командных кадров и даже открыто, на официальных заседаниях, выступал в защиту репрессированных из числа военных». И еще: «По вражеской работе со мной были связаны: командующий Западным военным округом генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич…». Позже, после 20-го съезда КПСС и последующей реабилитации Павлова и ряда других генералов из руководства Западного фронта, расстрелянных по приговору военной коллегии Верховного суда СССР 22 июля 1941 года, было принято считать, что эти показания из Мерецкова «выбиты» следователями НКВД. Сам же Мерецков был прощен и направлен на руководящую работу на фронты Великой Отечественной войны. В 1944 году стал Маршалом Советского Союза, удостоен высшего ордена «ПОБЕДЫ». Удивительно, но факт!
Пока зенитные батареи были в Минске, они довольно эффективно противостояли налетам гитлеровской авиации, в основном, на аэродромы. По различным оценкам, 23 июня были сбиты от семи до десяти бомбардировщиков и истребителей врага; 24 июня, в тяжелейшей воздушной обстановке ‑ шесть самолетов, а 25-го июня ‑ еще пять.[81]
Пока были самолеты, не разгромлены хранилища горючего и авиационные склады, Минск героически защищали наши летчики на истребителях и разведывательных самолетах. Еще 22 июня, в первый день войны, несмотря на тяжелейшие потери нашей авиации, командующий ВВС Западного фронта генерал-майор И.И. Копец, отдал приказ командующему 43-й истребительной дивизии, расположенной на аэродромах от Орши до Могилева и генералу Г.Н. Захарову двумя из четырех полков дивизии прикрыть Минск, так как на Асовиахимовском аэродроме в Слепянке (пригород Минска) дислоцировался только 313-й отдельный разведывательный авиаполк на 20-ти устаревших бомбардировщиках СБ. 184-й истребительный полк, как и вся 59-я истребительная авиадивизия, находящиеся в Мачулищах, не были полностью сформированы, мало было авиатехники. Она еще не освоена летчиками, еще не проведены учения. В итоге 160-й и 163-й истребительные авиаполки перебазировались из Могилевской области на аэродром в Лошице.
Больше генерал И.И. Копец ничего сделать не смог: увидев страшную картину разгрома на аэродромах 11-й и 9-й смешанных авиадивизий в районе Лида‑Барановичи, особенно 9-й, в которой находилась пятая часть, поступивших в ЗапОВО новейших истребителей МИГ-3, он 22-го июня (по другим сведениям, 23-го) застрелился. И.И. Копец был боевой летчик, командующий, храбро сражавшийся в Испании и успешно прошедший советско‑финскую войну. И чтобы застрелиться в своем кабинете, когда решался важнейший вопрос о господстве в воздухе, и, несмотря на потери, сохранилась значительная часть авиации округа, ‑ мало верится! Можно предположить, что участники военного заговора или испугались, что он, находясь в шоковом состоянии от разгрома нашей авиации уже в первые часы войны, может сам добровольно пойти в НКВД и выложить все, что он знал ‑ ликвидировали его. Или, что не менее подло, решили обезглавить руководство ВВС округа в воздушном блицкриге люфтваффе в решающие часы, и довели командующего ВВС до самоубийства. Сегодня трудно сказать определенно. Интересно, что никто больше из командного состава штаба округа самоубийством, в самые первые дни войны, не покончил. Заместитель Копца, А.И. Тюрский, возглавивший после гибели своего начальника ВВС Западного фронта, был позже арестован и расстрелян 23 февраля 1942 года. За что? Возможно за вредительство и причастность к гибели генерала И.И. Копца?
К сожалению, авиационный потенциал защиты Минска и войск при его обороне не смог защитить ни город, ни его защитников. Был разбомблен аэродром в Лошице, на который авиация врага совершила 23 июня одиннадцать налетов и где погибла значительная часть истребителей, сгорели склады с горючим, а то, что уцелело, уже не представляло серьезной опасности для массированных атак вражеской авиации. Еще на декабрь 1940 года 160-й и 163й истребительные полки к выполнению боевых заданий были не готовы. Причины ‑ неполная обеспеченность самолетами, наличие молодого необученного летного состава, мало руководящего состава летчиков. Решительных мер по исправлению такого положения не было предпринято, и к началу войны полки испытывали численную недостаточность кадров и материальной части. Случайно ли это, и почему?!
Однако советские летчики, даже в такой труднейшей ситуации, делали все, что могли, показывая примеры мужества и героизма. Так, неизвестный летчик, по словам очевидцев, один вступил в бой с десятью немецкими самолетами и два из них смог уничтожить. Младший лейтенант Ахметов (его инициалов нет в источнике) из 163-го полка сумел внести хаос и напугать на своем истребителе пятнадцать бомбардировщиков противника, не дал им возможности сбросить на город бомбы. Командир эскадрильи, этого же полка, майор Плотников во главе шести истребителей вступил в бой с двадцатью шестью немецкими истребителями. Два бомбардировщика, над Минском, лично сбил командир дивизии Захаров. Так что наши летчики и хотели, и умели воевать. Но 26 июня, уцелевшие самолеты, в том числе санитарные, были переброшены в Борисов на военный учебный аэродром. Тогда как было крайне важно прикрытие авиацией Минска и быстрый вывоз раненых.[82]
Сейчас много внимания уделяется участку «линии Сталина», который восстановлен с укреплениями. Да, был героизм защитников этих укреплений, да, на несколько часов они задержали противника, но надо смотреть на историю войны объективно. Шестьдесят третий (Минский) укрепленный район, как и ряд других на прежней границе БССР – 8-й Себежский, 61-й Полоцкий, 65-й Мозырский, 67-й Слуцкий были во многом демонтированы, и часть укреплений засыпана. Минский укрепрайон к началу войны своих штатных подразделений не имел, за исключением одного отдельного пулеметного батальона, и то в сокращенном составе. Он, в основном, выполнял функции охраны сохранившихся укреплений, которые были почти полностью разукомплектованы. К 25 июня враг вплотную приблизился к Минскому укрепрайону. На подступах к Минску развернулись кровопролитные бои. Фашисты бросили в бой танки для прорыва, хотя и слабых, укреплений. В дневнике боевых действий 100-й стрелковой дивизии читаем: «… 25 июня 1.25, в течение дня самолеты продолжали бомбить Минск. Город горит. 21.30 в районе Городище высадился десант. Дивизия получила задание выйти в район Острошицкого городка и занять оборону. Разведка установила, что танки прорвали УР и в направлении Минска действуют около 6 танков…». Так начиналась оборона Минска.
Штабу Западного фронта Наркомом обороны СССР Тимошенко был отдан категорический приказ о том, что за Минск требуется драться с полным упорством, и драться вплоть до окружения немцами наших войск, защищающих Минск. Этот приказ был доведен до всех войск на Минском направлении. Красноармейцы и командиры этот приказ выполнили. Очень многие погибли, а десятки тысяч попали в Минский «котел» и оказались в плену. Причиной плена были ранения, контузии, отсутствие боеприпасов. Командование же этих защитников Минска сначала толкнуло в «котел», а затем Родина «отблагодарила» их тем, что причислила к без вести пропавшим, или навесила ярлык предателей.
К 18.00 25 июня советские войска заняли оборонительный рубеж на западе от Минска силами 44-го стрелкового корпуса ‑ четыре дивизии и один корпусной артиллерийский полк, а ширина фронта обороны достигала 80‑84 километров. Создать сплошной устойчивый фронт такими силами было невозможно, пришлось строить защиту подступов к городу отдельными узлами сопротивления на наиболее вероятных направлениях движения гитлеровцев. Фашистские войска наступали по дорогам: Негорелое ‑ Минск, Молодечно ‑ Минск, Рубежевичи ‑ Минск, Раков ‑ Минск. Две, из четырех стрелковых дивизий, были подчинены 2-му стрелковому корпусу и заняли позиции севернее столицы, где оборона достигала протяженности около 90 километров.[83]
Бои за Минск начались уже вечером 25 июня – командование Вермахта очень спешило взять город и замкнуть кольцо окружения вокруг, отходящих от границы, частей советских армий: 10-й, 4-й, 3-й. Дальше ‑ рывок на Смоленск, и впереди ‑ Москва. Против 64-й стрелковой дивизии немцы бросили на участке Рогово ‑ Заславль ‑ Красное подразделения 39-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы. Несмотря на превосходство в людях и в боевой технике, гитлеровцы были остановлены советскими воинами. Немецкое командование, зная о своем значительном превосходстве, отдало своим войскам приказ взять Минск 26-го июня. С утра разгорелись тяжелые бои. 64-я дивизия с успехом отражала непрерывные атаки танков и мотопехоты в район Радошковичи ‑ Заславль. Три атаки врага отбил 30-й стрелковый полк, тогда немцы обрушились на обороняющийся левее 19-й стрелковый полк и прорвались в Заславль. Однако, решительной контратакой гитлеровцев выбили из поселка. В бою погиб командир полка А.И. Белов. С рассвета 27-го снова начались атаки крупных сил танков и мотопехоты на наши позиции. Немецкое командование ультимативно требовало любой ценой сломить сопротивление воинов дивизии, кинув против них авиацию и артиллерию. Земля вставала дыбом, мало что можно было разглядеть из-за черно-серой пелены дыма. Красноармейцы и командиры 64-й дивизии стойко оборонялись, нередко яростные бои переходили в рукопашные схватки. Деревни Ошпарово и Лумищино неоднократно переходили из рук в руки. 27 июня немцам здесь прорваться не удалось, но силы обороняющихся таяли, заканчивались боеприпасы.
Особо отличилась 100-я стрелковая дивизия, под командованием И.Н. Руссиянова, опытного командира, участника освобождения Западной Белоруссии, обладавшего решительностью, твердостью воли и умением, не колеблясь брать на себя ответственность в тяжелые минуты боя. Почти три дня сдерживали атаки врага воины дивизии в районе Острошицкого Городка ‑ Караси. Они первыми на советско-германском фронте использовали против танков и бронетранспортеров противника бутылки с горючим (вспомнился опыт войны в Испании и в Финляндии), которые доставлялись на позиции дивизии грузовиками с Минского стеклозавода «Пролетарий». Подбивались немецкие танки и бронетранспортеры и связками гранат. Противотанковых артиллерийских орудий на данных позициях наших частей не было, а что-то противопоставить бронетехнике гитлеровцев было жизненно необходимо. В середине дня, 26 июня, на позиции 85-го стрелкового полка 100-й дивизии, прикрывавшего Логойское шоссе, в атаку пошли 50 танков. Подпустив их к окопам, стрелки начали забрасывать танки подожженными бутылками с бензином. В результате через несколько минут горело около двадцати танков. Атака врага захлебнулась. Тогда гитлеровцы несколько переменили направление новой атаки и предприняли ее вдоль шоссе Молодечно‑Минск. В ходе боя группа бойцов 355-го стрелкового полка, во главе с капитаном З.С. Багдасаровым, подожгла двенадцать немецких танков и уничтожила до двух рот фашистов.
В ночь на 27 июня разведка дивизии установила, что противник оставил на переднем крае только небольшое подразделение. Утром 27-го 100-я и 161-я дивизии, во взаимодействии, нанесли внезапный контрудар в северо-западном направлении. Застигнутые врасплох части гитлеровцев, бросив технику и вооружение, отступили на 10‑14 километров. На следующий день немцы ввели в бой еще одну танковую дивизию. Но прорваться здесь они так и не смогли.
Почти за трое суток 100-я дивизия разгромила 82-й пехотный полк 31-й пехотной дивизии, 2-й танковый полк 7-й танковой дивизии, мотоциклетные подразделения противника. Бойцы дивизии, истекая кровью, неся большие потери, сумели нанести гитлеровцам серьезные потери: 101 танк, 13 бронемашин, 61 мотоцикл, 23 противотанковых орудия.
Вели упорные бои и другие дивизии, защищавшие Минск. Они смогли за несколько дней боев, со значительно превосходящими силами врага, уничтожить более 100 танков противника, а еще свыше 200 подбить. Таких потерь танковых сил фашисты еще не знали. Однако обстановка все время обострялась, враг упорно рвался вперед, не считаясь с потерями. 26 июня штаб Западного фронта направил Наркому обороны Тимошенко боевое донесение с грифом «Вне всякой очереди»: «До 1000 танков обходят Минск с северо-запада, прошли укрепленный район у Козаково. Противодействовать нечем».[84]
Все меньше оставалось в строю бойцов, почти не было боеприпасов, вражеская авиация разбомбила многие артиллерийские батареи, скопились тысячи раненых, которых некуда и некому было эвакуировать в тыл. Но, несмотря на все трудности и потери, советские войска продолжали оборону Минска, постепенно отступая. К окраинам Минска вплотную придвинулись 12-я, 17-я, 20-я танковые дивизии Вермахта. Днем 28 июня в город с северо-запада ворвалась 3-я танковая группа Гота (район нынешней площади Бангалор), а вечером, 28 июня, еще и со стороны Болотной станции вошли танки и мотопехота немцев. 20-я танковая дивизия вытеснила разрозненные группы защитников из Минска. Но соединиться со 2-й танковой группой ей не удалось, так как вскоре пришлось отбивать атаки советских воинов с юга и востока. К исходу 29 июня фашистским войскам удалось, обойдя Минск с севера и юга, отрезать пути отхода одиннадцати дивизиям Западного фронта. Часть обороняющихся войск с боями, в начале 2-го июля, вышли из окружения, в том числе 100-я, 64-я и 108-я дивизии. В окружении оказались шесть советских дивизий: четыре стрелковых, одна танковая и одна кавалерийская ‑ из состава отходящих войск 3-й и 10-й армий; три дивизии 13-й армии и две дивизии фронтового подчинения; тыловые части и остатки еще нескольких дивизий; некоторые подразделения соединений второго эшелона округа.
Командование Вермахта рассчитывало всего за день-два расчленить окруженную группировку и быстро добить ее по частям. Но оно не учло стойкости, мужества, решения красноармейцев и командиров советских войск биться с врагом пока есть силы. Бои продолжались с неутихающим упорством. Об этих смертельных боях и сегодня мало что известно, но нам хорошо известно, что только благодаря самоотверженности и верности наших войск Родине, у Вермахта не хватило сил, для быстрого и сокрушающего удара на Смоленск и далее на Москву. Советские армии в эти тяжелейшие дни июня только подходили из внутренних округов (20-я, 21-я, 22-я) и перебрасывались с Украины (16-я, 19-я), где советское командование ранее ожидало основной удар Вермахта. Для окружения и ликвидации окруженных советских дивизий и частей, немецкое командование использовало большую часть войск группы армий «Центр» ‑ до 36-и дивизий (60% из общего числа в 60 дивизий этой группы), и укрепило эту группу резервом главного командования Вермахта. И даже в ходе боев по уничтожению окруженных советских войск и дальнейшего наступления в направлении Витебска, Полоцка, Борисова, Бобруйска Вермахт не решил поставленную перед ним задачу, ибо сила духа советских воинов оказалась сильнее техники нацистов.
Командование Вермахта до конца первой декады июля 1941 года не могло снять из‑под Минска и Минского «котла» ни одной дивизии из 25-и, а это половина всех сил войск группы армий «Центр», которые были заняты ликвидацией окруженных частей Красной Армии. Таким образом, даже гибнущие войска Западного фронта оттягивали на себя значительные силы с главного направления наступления Вермахта и давали время советскому командованию успеть, хотя бы в основном, перебросить войска и создать сплошную линию фронта даже в условиях отступления Красной Армии и прорывов дивизий противника.
Но положение было крайне тяжелым и критическим для советских частей. К концу июня в полосе Западного фронта войскам 2-й и 3-й немецких танковых групп противостояли лишь шестнадцать советских дивизий, понесших серьезные потери и воевавших разрозненно в полосе шириной до 350 километров. К 30 июня наши ВВС, понесшие огромные потери, располагали всего 150-ю самолетами (из них 52 истребителя). Немцы имели, примерно, тысячу самолетов. Создать такими силами, какие были у Красной Армии, сплошной фронт обороны западнее рек Северная Двина–Березина–Днепр представлялось невозможным.[85]
Началось соревнование, между главными силами группы армий «Центр» и нашими резервными армиями, по скорости выхода и занятия соответствующих позиций. Стоял вопрос ‑ удастся ли противнику прорваться к Смоленску и захватить южные и северные районы Белоруссии, или советские войска сумеют воссоздать сильный Западный фронт. Если не получится остановить противника, то, хотя бы, значительно сбить темпы продвижения немцев на восток. От решения этой задачи зависело очень многое. Это и угроза второго фронта на Дальнем Востоке и вторжение Турции на Кавказе. Отсюда и главенствующее значение военных действий и событий на Западном фронте. Но в историческом плане встают два острых вопроса по поводу исхода скоротечных, но жестоких боев при обороне Минска.
Первый вопрос: Как получилось, что враг, теснивший наши войска, оборонявших город, но не сумевший прорвать их фронт, вдруг днем и вечером 28 июня оказался в городе и ударил с тыла и по флангам наших войск? Объяснений в исторической литературе, кроме ссылки на крайнее неравенство сил наступающих и обороняющихся не имеется. Чаще всего военные историки просто констатируют сам факт захвата немцами города 28 июня 1941 года, несмотря на сильное сопротивление частей Красной Армии. Однако историческая правда, признавая правильными оба эти объяснения, говорит и о другом. Почему немцам удался танковый удар с северо-запада, со стороны Вильнюса? Почему противника не остановили или почему нашим подразделениям не удалось существенно затормозить продвижение немцев на Минск? Дело в том, что на левом фланге Северо-западного фронта, по приказу командующего фронтом Ф.И. Кузнецова, были размещены литовские части, состоявшие из военнослужащих бывшей до июня 1940 года Литовской армии, которые не хотели сражаться с немцами, защищая Советский Союз. В глазах литовцев те и другие были захватчиками, оккупантами, но советские были значительно хуже.
Проведение советской властью массовых депортаций и арестов литовцев по политическим и классовым признакам, направление десятков тысяч их в лагеря ГУЛАГа и в ссылки, без права возвращения на Родину, национализация промышленности и торговли, начало коллективизации, отнюдь не добровольной, принудительный перевод всех литовских школ на обучение детей на русском языке, наряду с литовским, и, к тому же, по советским учебникам. Все это в годину испытаний страшно аукнулось. Литовские части перестреляли тех командиров, кто не успел вовремя убежать. Стреляли, как командиров из числа советских, так и своих, из числа литовских коммунистов, а затем и сами разбежались, освободив, таким образом, немцам путь на Минск. Немцы беспрепятственно двинулись вперед танковыми и мотопехотными колоннами 3-й танковой группы. Через Каунас, бывший до осени 1939 года столицей Республики Литва, немцы прошли без боя и без задержки, и, таким образом, вышли в тыл защитникам Минска. Другой источник подтверждает, что территориальный стрелковый корпус Литвы, сформированный из солдат и офицеров бывшей литовской армии, попросту разбежался, так как не хотел воевать за «красных». Днем 28 июня гитлеровцы ворвались в Минск. Воспользовавшись сумятицей и растерянностью защитников города, 2-я танковая группа прорвала фронт и вечером 28 июня ее танки оказались в Минске. Видимо, сыграл свою роль еще и добровольный переход к немцам 27 июня, со всеми оперативными документами, начальника штаба Северо-западного фронта генерала Ф.И. Трухина. Это был хорошо информированный, вовремя не разоблаченный враг, предатель Родины. Он дал сведения Абверу не только о дислокации и силах своего фронта, но и Западного тоже, сообщил о планах и намерениях советского командования на Украине. Закономерно, что Трухин оказался в штабе предателя Власова, где играл значительную роль в агитации за вступление советских военнопленных в части РОА (Русскую освободительную армию, организованную нацистами в 1942 году из числа предателей, их еще называли «власовцами»). Фашисты использовали власовцев в карательных операциях против гражданского населения, партизан, подпольщиков, на охране железных дорог, для насильственных реквизиций продуктов, зерна, скота у местного населения, частично, на охране лагерей военнопленных. Предатель Трухин через несколько лет свое получил ‑ повешен вместе с другими генералами-изменниками и с самим Власовым по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР после войны.[86]
Второй вопрос: Почему достаточно легко немцы сумели взять в плен в Минском «котле» 330 тысяч красноармейцев и командиров? Да, они были почти без боеприпасов, у них не было продовольствия и медикаментов, если и были пушки, то без снарядов ‑ все израсходованы, не было танков, почему-то исчезла наша авиация и радиосвязь. Но чтобы треть миллиона попало в плен!
Здесь, на наш взгляд, сложились несколько факторов.
Во-первых, шок, растерянность, дезорганизация от крайне резкого перелома не только в личной судьбе, но и от разгрома многих дивизий Западного фронта. Ведь вся советская пропаганда была построена на тезисах о непобедимости советских войск, о том, что могучим ударом сразу переломят хребет нацистскому воинству, что война будет победоносной, быстрой, малой кровью, на чужой территории. Реальность оказалась совсем другой, трагической и кровавой.
Во-вторых, почти полная утрата управления войсками. Штабы и командиры часто не знали, что делается впереди, позади, справа и слева от их частей, действовали неорганизованно, иногда стихийно. Многие ждали команд «сверху», надеялись, что подойдут соединения Красной Армии и выручат их. Когда же этого не произошло, то нередко наступали апатия, упадочничество, растерянность, непонимание сложившейся обстановки, желание как-то пережить этот страшный огненный вихрь.
В-третьих, не надо недооценивать масштабы и влияние немецкой печатной пропаганды, когда самолетами сбрасывались сотни тысяч листовок с рассказами о нормальном питании для пленных и гуманном отношении со стороны гитлеровского командования. Эти листовки служили пропусками для одного, нескольких, или группы военнослужащих, которым гарантировалось соблюдение всех прав военнопленных по Женевской конвенции. Действительность нацистского плена оказалась совсем иной: голод, холод, болезни, почти полное отсутствие помощи раненым, массовые расстрелы коммунистов, комсомольцев, советских активистов, евреев, цыган, ежедневные издевательства и пытки, убийство любого, кто был недоволен жестоким отношением к сдавшимся или захваченным в плен. По разным подсчетам в немецком плену погибло в 1941 году до двух миллионов советских солдат и офицеров.
В-четвертых, определенную роль в начале войны сыграла историческая память сотен тысяч военнослужащих царской армии, которые в 1914‑1917 годах оказались в ходе военных действий в германском плену. Кормили кое-как, заставляли много работать в сельском хозяйстве, на шахтах, но жить, хоть и плохо, можно. И многие дотерпели до Брестского мира в начале марта 1918 года, когда германские власти отправили их в Россию или на их «малую Родину», в области, еще оккупированные немецкими войсками. Мало того, у многих военнопленных были семьи, родственники, друзья, знакомые и они часто и много рассказывали им о своей жизни в плену. Эти сведения хорошо запоминало подрастающее поколение уже в условиях СССР. Однако конкретные действия гитлеровских захватчиков, по отношению к военнопленным, очень быстро для всех разъяснили большую разницу между германским пленом в Первую мировую войну, и нацистским пленом ‑ в годы Великой Отечественной войны.
В трагедии захвата Минска и окружения советских войск в Минском «котле» немалую роль сыграло лживое сообщение начальника штаба Западного фронта Климовских начальнику Генерального штаба Красной Армии Жукову ночью 28 июня. Вот их разговор: «У аппарата Жуков. Доложите. в чьих руках Минск, где противник? Климовских: «Минск по-прежнему наш. Получено сообщение: в районе Минска и Смолевич высажен десант. Усилиями 44-го стрелкового корпуса десант ликвидируется… Противник, по последним донесениям, был перед УРом…».
Что ни слово ‑ ложь. В Минске уже были немецкие танки и мотопехота, а десантники ликвидированы лишь частично. В районе Острошицкого Городка с утра и до наступления темноты, 26 июня, осуществлялась выброска немецкого парашютного десанта, группами по три самолета, через каждые 10‑15 минут, обеспечившего посадочную площадку для транспортных самолетов, которые начали переброску войск и боевой техники.
О какой ликвидации десанта вообще могла идти речь, да еще силами 44-го стрелкового корпуса, чьи дивизии вели тяжелейшие бои 26-го, 27-го, и до самого вечера 28-го июня с рвущейся к Минску 2-й танковой группой Гудериана. Гитлеровцы были не перед УРом, как утверждал Климовских, а обошли его и подавили сопротивление отдельных подразделений советских войск, занявших некоторые демонтированные укрепления 25‑26 июня.[87]
Почему Климовских дезинформировал Жукова? На этот вопрос возможны два ответа: Или он спасал себя от ответственности за проигрыш сражения за Минск и окружение советских войск, выдавал желаемое за действительное, так как не имел информации о реальном положении дел, находясь в Могилеве, куда штаб Западного фронта эвакуировался из Минска еще ночью 24 июня. Или, что нельзя полностью исключить, докладывал дезинформацию умышленно, будучи активным участником военного заговора. Но факт остается фактом: была упущена последняя возможность уменьшить масштабы поражения, осуществив вывод через Минск и его окрестности значительного количества наших войск, через пробитый, в еще слабом кольце окружения, коридор, поскольку Минск заняли подразделения всего двух немецких танковых дивизий. Можно было навести жесткий порядок, организовать планомерную и многослойную оборону, не бросая войска на произвол судьбы, четко и ясно ими руководить. Сдержать врага вряд ли удалось бы, но замедлить темпы его продвижения, нанести Вермахту ощутимые потери, выиграть дополнительное время, вполне реально. Но для этого, как минимум, в Москве должны были знать правду о ситуации, ибо счет шел не на дни, а на часы. К сожалению, ничего подобного командующий Западным фронтом не сделал.
И это не субъективная позиция авторов о тех событиях. При должном управлении войсками фронта, обеспечении надежной связи между штабами и подразделениями войск, налаженном взаимодействии боевых сил, продвижение Вермахта существенно замедлилось бы. Так, 1 июля, через два дня после захвата немцами Минска, несколько тысяч бойцов различных частей Красной Армии, оказавшихся в окружении на западном направлении от города, под руководством командира 8-й особой противотанковой бригады полковника И.С. Стрельбицкого, повели наступление на немцев. Им удалось прорвать оборону противника на подступах к столице, выйти с северо-запада на ее окраину. Завязались уличные бои. Но силы были не равными, и наши подразделения вынуждены были отступить. На следующий день И.С. Стрельбицкий сделал новую попытку овладеть Минском. Но на этот раз без успеха, так как гитлеровцы подтянули резервы и не допустили прорыва наших подразделений в город. А если бы группу И.С. Стрельбицкого поддержали хотя бы 2‑3 дивизии из одиннадцати окруженных? Тогда вполне возможно было бы создать коридор для выхода из окружения, если и не всех дивизий, то хотя бы большего числа войск. Беда армейского командования заключалась в том, что оно не было приучено проявлять инициативу, готовность взять на себя ответственность и проявить умелое руководство. Поэтому никто и не проявил инициативу помочь И.С. Стрельбицкому. Его группе была бы необходима и помощь извне, от имевшихся советских войск, но она не последовала.
3 июля, когда в Минске уже полностью хозяйничали захватчики, героический подвиг совершил вместе с экипажем механик-водитель танка Т-28 старший сержант Д.И. Малько. Ворвавшись в город, советский танк мчался по улицам, уничтожая огнем и гусеницами живую силу и технику врага. Только в центре города гитлеровцам удалось подбить боевую машину. А если бы был не один наш танк, а несколько десятков? Ведь Минск активно обороняла, пусть и не полностью укомплектованная, с небольшим количеством танков, находившаяся в стадии формирования, 20-я танковая дивизия, которая смогла за несколько дней боев подбить 50 немецких танков. Но не было координации действий, четкого руководства командования, отсутствовала взаимная связь. Если бы командованием было хорошо скоординировано наступление наших разрозненных частей, тогда и результат был бы совсем другой.
Так, более месяца сражалась в окружении Самаро-Ульяновская Железная дивизия, под командованием К.М. Галецкого, в районе Ивье, Негорелое, Узда, Слуцк, Глуск. В этих боях воины дивизии подбили 97 танков, сбили 9 самолетов, убили и ранили несколько тысяч солдат и офицеров Вермахта, и смогли, хотя и с потерями, прорвать окружение и выйти за линию фронта.
Климовскому его ложь о положении дел в Минске не помогла. Через неделю его, как и Павлова, а также группу других генералов ‑ руководителей Западного фронта, арестовали, судили и через месяц расстреляли ‑ за потерю управления войсками, трусость, бездействие, паникерство, за создание возможности прорыва фронта противником на одном из главных направлений. Военная коллегия Верховного Суда СССР 31 июля 1957 года отменила приговор от 22 июля 1941 года, по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако в средствах массовой информации и публикациях ничего не сказано, ни единого слова, об этих «обстоятельствах». Дело прекращено за отсутствием состава преступления!!!
В связи с таким «славным» решением суда по делу Павлова-Климовского, кто и что ответил бы тем, тысячам погибших и сотням тысяч попавшим в плен, советским воинам о потерях самолетов на аэродромах и уничтоженных танках летом 1941 года, отсутствия боеприпасов и горючего, надлежащей противовоздушной обороны, проигранных приграничных сражениях частями Красной Армии в июне ‑ первой декаде июля 1941 года против ударных сил гитлеровской группы армий «Центр» на Минском направлении? И еще вопрос: не были ли сочувствующими группе заговорщиков и некоторые члены Военной Коллегии Верховного Суда?
Бои первых дней войны, разгром 1-го и 2-го эшелонов войск Западного фронта, захват Минска и окружение трех армий, явственно показали высшему военному командованию, руководству СССР, возглавляемому Сталиным на несостоятельность стратегического плана контрудара и крайнюю необходимость выработки нового реалистического плана военных действий, с учетом продолжающегося наступления Вермахта. В первую очередь, это касалось переноса сосредоточения резервных армий, на выявившемся в июне 1941 года основном направлении наступления фашистских войск ‑ через Белоруссию на Смоленск и далее на Москву. Еще 25 июня высшее военно-политическое руководство Советского Союза приняло решение создать оборонительный рубеж на линии Сущево – Витебск – река Днепр до Кременчуга. По этому решению в полосе Западного фронта должна была быть создана по линии Сущево ‑ Невель ‑ Витебск ‑ Могилев ‑ Жлобин ‑ Гомель силами пяти армий (16-ой, 19-ой, 20-ой, 21-ой, 22-ой) новая линия обороны. На восток от линии обороны началась концентрация войск 24-й и 28-й армий. Всего, на начало июля, на западном направлении должно было быть сосредоточено 70 дивизий. Это важно и тем, что танковые и моторизованные дивизии 4-й танковой армии группы армий «Центр», созданной немцами 3-го июля из 2-й и 3-й танковых групп, начали выдвижение из района Минска на восток. Создалась реальная угроза быстрого выхода войск Вермахта на рубеж Днепра.
Высшему советскому командованию в точном определении главного удара группы армий «Центр» помогло и то, что 25 июня 1941 года сводный отряд разведчиков (командир ‑ Е.В. Чумаков, комиссар – старший политрук Я.Е. Гонцов) в лесу около деревни Шелухи, на запад от поселка Радошковичи, разгромил оперативную группу 39-го немецкого механизированного корпуса. Был убит генерал, у которого разведчики обнаружили ценные, особо секретные оперативные документы – планы группы армий «Центр», оперативное построение и размещение всех частей группы армий «Центр», где подробно указаны силы 3-й танковой группы. Были также взяты пленные, которые дали важные сведения. Вскоре портфель с документами и бесценной картой был в Генеральном штабе Красной Армии у Шапошникова.
Но есть и несколько другая версия захвата документов, которую привел Б. Шапталов в своей книге «Испытание войной»: «Ее разведбатальон (64-ой стрелковой дивизии) 25 июня в районе Молодечно наткнулся на штабную колонну 39-го моторизованного корпуса. В коротком бою было уничтожено 15 автомашин и несколько десятков солдат и офицеров. Разведчики захватили штабные документы, в том числе карты с обозначением всей группировки армий «Центр», с указаниями направлений армий и танковых групп и сроками достижения промежуточных рубежей».
Исследователь и литератор В.И. Белоусов сообщает, что захват оперативной карты осуществил 73-й отдельный разведывательный батальон ОСНАЗ (подразделения особого назначения, предшественники разведывательно-диверсионных частей Красной Армии), под командованием заместителя командира разведбатальона Я.Е. Гонцова. Как это было в действительности, и кто кем командовал, со временем разберутся исследователи. Главное, что разгром штабной колонны немцев нашими разведчиками произошел в реальности, и что ценнейшие документы и карта были добыты в Белоруссии на четвертый день войны.[88]
В результате всего комплекса событий на фронте, и захваченных у врага важных оперативных документов, к 30 июня был, в основном, сформулирован новый план борьбы с гитлеровскими захватчиками. Его основная задача состояла в том, чтобы активной стратегической обороной подорвать наступательные возможности врага, выиграть время для накопления стратегических резервов и, изменив в ходе боев соотношение сил, создать предпосылки для перехода советских войск в решительное контрнаступление, что и было с успехом осуществлено в ходе Смоленской и Московской битв, в итоге обусловивших возможность разгрома немцев под Москвой и перехода Красной Армии в наступление в начале декабря 1941 года.
Тревожная и опасная обстановка требовала крайней степени централизации всех сторон жизни страны. Поэтому 30 июня был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным, сконцентрировавшим в своих руках всю полноту власти в государстве и сыгравший важную роль в мобилизации всех сил СССР на отпор гитлеровской Германии. Для непосредственного руководства вооруженной борьбой на фронте, 23 июня была создана Ставка Главного Командования, преобразованная 10 июля в Ставку Верховного Командования. Верховным Главнокомандующим 8-го августа был назначен Сталин. Таким образом, в его руках была сосредоточена государственная, военная и политическая власть. В 1941 году в состав Ставки Верховного Главнокомандования, а это был орган коллективного руководства, входили одиннадцать человек во главе со Сталиным ‑ почти все военные: Сталин, Тимошенко, Ворошилов, Жуков, Буденный, Молотов, Булганин, Кузнецов, Антонов, Василевский, Шапошников. Ставка начала наводить порядок и четкое управление в армии.[89]
Еще в дни сражений на Минском направлении, гитлеровские войска обошли Минск с юга и их передовые подразделения 26 июня достигли Бобруйска, важного, в масштабе республики, промышленного и транспортного центра. К моменту выхода к городу гитлеровцев в этом районе не было ни одной нашей дивизии, способной дать отпор натиску противника. Отходящие же, с боями, от границы дивизии 4-й армии, сумевшие пробиться из Минского «котла», были настолько обескровлены и измотаны, что не могли организовать действенной обороны города, и выводились на формирование под Гомель. Командование 4-й армии приняло решение сдать Бобруйск без боя, а небольшому гарнизону, примерно в 3 500 человек, находившихся еще в городе, приказало перейти к обороне на реке Березина.
Какие были силы гарнизона Бобруйска к 26 июня? Основу его составляли две части: 21-й дорожно-эксплуатационный полк и военно-транспортное училище. Полк являлся тыловой частью, в задачу которой входило регулирование на военных дорогах, обслуживание этих дорог. В мирное время часть имела в своем штате всего 150 человек личного состава. После начала войны в часть прибыло по мобилизации еще 1300 человек (по другим данным прибыло всего 400 человек), включая командиров батальонов и замполита. Часть была не боеспособна: не хватало винтовок, лопат, снаряжения, командиры не знали своих бойцов, многие бойцы еще не приняли присягу. Вот этому полку и была поставлен задача оборонять участок у трех мостов через Березину, на направлении основного удара врага. Лучше было положение с военно-транспортным училищем, в составе двух батальонов с 500 курсантами (по другим данным курсантов было около 1 000 человек), которые прошли годичную подготовку по программе командиров стрелковых подразделений, и у всех было оружие. Кроме этого, в Бобруйске находились команды, поступившие по мобилизации 23–25 июня, во главе с 1‑2 командирами, оставшимися для получения пополнения, ведущими бой частей. Мобилизованных обмундировали, выдали оружие, но на должности не поставили ‑ не было этих частей. Они ждали автомобилей, чтобы везти команды на запад, однако транспорт так и не пришел. Почему? Можно предположить, что или автотранспорт не успели мобилизовать и направить за командами, или не было бензина для его заправки, или же немецкая авиация успела разбомбить колонну грузовиков, направлявшихся в город.
Имеющиеся две части, мобилизационные команды некоторых частей, отступающие подразделения, в очень острой и неясной обстановке, были объединены в один отряд и подчинены командиру 47-го стрелкового корпуса генерал-майору С.И. Поветкину. По имеющимся сведениям, в отряд вошли Бобруйское военно-транспортное училище, 21-й дорожно-эксплуатационный полк, сводный полк 121-й стрелковой дивизии, 246-й саперный батальон, 273-й отдельный батальон связи, три артиллерийских полка с частью уцелевшей артиллерии ‑ 16-ть 155 миллиметровых орудий и 4-е орудия особой мощности – 203 миллиметровых. Всего, по архивным данным, набралось 3 500 человек. В первые дни обороны Бобруйска, с немецкими моторизованными и танковыми частями не было сильных боев. Прорвавшийся передовой отряд явно ожидал подхода основных сил, не имея, по-видимому, особого желания лезть под огонь советской тяжелой артиллерии.
Наиболее трудное положение сложилось, в ходе боя, у трех мостов через Березину, которые должен был защищать 21-й полк. За три дня боев, с 28 по 30 июня, где противник имел наибольший успех, полк потерял ранеными 13 человек и пропавшими без вести 948 человек. Очевидцы из полка свидетельствовали, что призванные из запаса уходили домой группами под покровом темноты, участок обороны полка постепенно оголялся, хотя противник на участке от Шаткова до Бобруйска и от южной окраины Бобруйска (Форштадт) до Доманово, не наступал. Что об этом факте можно сказать? Да, было много стойких защитников родной земли и родного народа от гитлеровских захватчиков, но были и трусы, паникеры, предатели, которые хотели отсидеться в безопасности.
28 июня к передовому отряду немцев подошла 3-я танковая дивизия и вошла в Бобруйск. Контратака отряда, под командованием Поветкина, не удалась. Мосты через Березину были разрушены, но это не остановило войска Вермахта. В журнале боевых действий 3-й танковой дивизии Вермахта за 30-е июня есть такая запись: «В 6.00 был наведен мост через Березину, в 9.00 дивизия овладела Титовкой (район небольшого плацдарма у разрушенных мостов), в 15.45 дивизия выполнила задачу». В течение дня 30 июня переправились через Березину 93 танка и бронемашины, а также несколько десятков мотоциклов. Большинство танков и бронемашин ушли в северном направлении, перехватить их не удалось. Незначительное количество бронетехники ушло восточнее и южнее Бобруйска.
Почему это произошло? Из Бобруйска немцы нанесли лобовой удар через Березину вдоль шоссе в Рогачев. На этом направлении оказалась очень неустойчивой оборона 21-го полка, который на две трети своего состава разбежался, а 30-го июня была преодолена оборона, отчаянно сопротивлявшихся курсантов военного училища. Немцам удалось ввести в заблуждение нашу авиацию, которая три дня бомбила мнимые переправы под Шатково и Доманово. Это еще раз доказывает, что к врагу надо было относиться серьезно, а не с пренебрежением. По данным воздушной разведки Западного фронта, хотя и была вскрыта группировка противника, подходившая к Бобруйску, но дальнейшие ее действия нашей авиацией не раскрыты, переправы не обнаружены. Только сообщалось, что все переправы разрушены. Опять сказалась старая болезнь, когда желаемое выдается за действительное.[90] После Бобруйска, гитлеровское командование решило нанести следующий удар на город Борисов и захватить его, обеспечив новую переправу танков и мотопехоты через Березину. 30 июня 2-я и 3-я танковые группы распределили свои направления: 3-я танковая группа наступает основными силами на Витебск и Полоцк, а 2-я ‑ вдоль шоссе Минск‑Смоленск.
Во второй половине дня 30 июня танковые и моторизованные части двух дивизий 47-го танкового корпуса противника ворвались на западную окраину Ново – Борисова. На рубеже реки Березина, в районе Борисова, сражались с врагом со 2-го по 6-е июля воины 1-й Московской мотострелковой дивизии, под командованием Я.Г. Крейзера, курсанты Борисовского танкового технического училища, сводная дивизия, сформированная из частей, подразделений и отдельных бойцов Красной Армии из состава 4-й армии, которая отходила из района Минска. Против них наступали семь танковых и моторизованных дивизий 2-й танковой группы Гудериана, являвшиеся ударным кулаком Вермахта на Смоленско-московском направлении. Воспользовавшись тем, что наши войска были малочисленными и рассредоточенными на широком фронте обороны, фашисты сумели второго июля (по другим источникам – 1-го июля) взять Борисов. Этому способствовали мощные авиационные удары и артиллерийская подготовка по обороняющимся войскам, невзорванный мост через Березину, по которому беспрепятственно переправились танки немцев. Но дальше продвинуться враг не смог, застряв в ожесточенных боях вдоль шоссе Минск‑Москва, в которых за три дня боев немцы потеряли до 70-и танков и более 2 000 солдат и офицеров. Отважно сражались артиллерийские батареи лейтенантов Н. Реутова, М. Цыпкина, С. Гомельского. Так, на батарею лейтенанта С. Гомельского устремились десять танков. Артиллеристы открыли огонь по врагу прямой наводкой, но и враг стрелял часто и метко. Огневая позиция батареи была изрыта глубокими воронками. В живых остались лишь трое бойцов, и тяжело раненый командир батареи. Несмотря на малочисленность состава, бойцы уничтожили семь танков противника. Фашисты на этой позиции пройти не смогли благодаря мужеству и стойкости наших воинов.
В условиях беспрерывных бомбежек с воздуха, обстрелов немецкой артиллерии и танковых атак мало кто уцелел из личного состава этих батарей. Но они, ценой своих жизней, внесли свой вклад в будущую Победу, помогли нашим войскам задержать на несколько суток немецкие армады. Пригодились и бутылки с зажигательной смесью. Советские воины, под командованием старшего лейтенанта А.С. Щеглова, подожгли на автостраде 15 танков, пытавшихся прорваться. Героизм и мужество проявил в районе Коханово, на рубеже реки Одров, наводчик орудия Н.М. Дмитриев. Оставшись один из орудийного расчета, он до последнего снаряда расстреливал немецкие танки. Семнадцать осколков было извлечено из тела солдата в госпитале. Несмотря на многочисленность ран герой, к счастью, выжил. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На протяжении одиннадцати суток, не стихавших боев, воины 1-й Московской мотострелковой дивизии сдерживали врага на рубеже рек Нача, Бобр, Одров, в боях за Крупки и Толочин. Исключительно упорные бои велись за Толочин. После того, как фашистам удалось завладеть Толочином, и они пытались продвинуться дальше, 8-го июля части дивизии осуществили смелый контрудар и выбили противника из города. Дважды, 8-го и 9-го июля город переходил из рук в руки, несмотря на превосходство противника, его неоднократные и сильные атаки. В боях за Толочин было взято в плен 800 солдат и офицеров Вермахта, захвачено 350 автомашин и знамя 47-го моторизованного корпуса. Нередки были подвиги советских воинов, до конца сражавшихся с сильным врагом. В районе Борисова в разведке находился броневик с младшим политруком А. Почепцовым и красноармейцем В. Голеновым. В бою немцы подбили их броневик и предложили сдаться в плен. Герои отстреливались до последнего патрона и последнюю гранату бросили в гитлеровцев. Фашисты подожгли броневик. А. Почепцов и В. Голенов сгорели заживо в машине, но воинскую честь не посрамили сдачей в плен врагу.
Отважно и умело дрались с врагом советские летчики 401-го истребительного полка, хотя гитлеровцы и имели численное превосходство. 1-го ‑ 2-го июля в районе Бобруйска‑Борисова они уничтожили в воздушных боях около 60-и самолетов врага. 4-го июля в бою на МИГ-3 погиб командир этого полка С.П. Супрун, приняв бой с шестью вражескими самолетами, один из которых сбил. Он первым, из летчиков в годы Великой Отечественной войны, был награжден второй медалью «Золотая Звезда» (эту медаль вручалась вместе с орденом Ленина).
На рубеже реки Березина, в районе Бобруйска и Борисова, стойко сражались воины, отошедшей от Минска и вырвавшейся из окружения, но не утратившей боеспособности 100-й дивизии. Она в течение нескольких дней отражала массированные атаки немецких войск, а затем, снова оказавшись в окружении, стойко оборонялась (фашисты так и не смогли прорвать оборону и обошли ее с флангов). С тяжелыми боями дивизия прорвалась на восток и, выйдя к Днепру, соединилась с основными силами Западного фронта.[91]
Южнее Борисова, упорно вели бои части 4-го воздушно-десантного, 2-го механизированного корпусов и 155-й стрелковой дивизии. Они сорвали попытки врага с ходу форсировать реку в районе населенного пункта Березино и задержали дальнейшее продвижение 2-й и 9-й армий группы армий «Центр». Только, когда все соединения 2-й и 3-й танковых групп достигли реки, им удалось, используя свое численное и техническое преимущество, форсировать реку Березину и устремиться к Днепру. Развернулись тяжелые бои на Витебском, Оршанском, Полоцком и Могилевском направлениях. Тут разворачивались, отдельными соединениями, прибывшие из резерва 22-я, 19-я, 20-я и 21-я советские армии, а во втором эшелоне, в районе Смоленска, ‑ 16 армия. Это была большая сила, но подготовка к обороне на рубеже рек Западная Двина и Днепр велась в сложных условиях. Часть войск 19-й, 20-й и 21-й армий, всего 13 дивизий, была лишь на подходе к фронту. Ко времени выхода немецких войск к этим рекам, уже прибывшие сюда, резервы не успели ни сосредоточиться, ни создать оборонительные позиции, ни развернуть войска в боевой порядок. В первом эшелоне армий насчитывалось 24 дивизии. Они в спешном порядке рыли окопы и траншеи, создавали противотанковые заграждения. Оборона готовилась в широкой полосе: от 35 до 70-и километров на дивизию. Была слабая людская, материальная и техническая обеспеченность, войска не полностью укомплектованы личным составом, боевой техникой и вооружением. В дивизиях насчитывалось только 145 танков, фронт располагал всего 3 800 орудий и минометов, 389 исправными самолетами.
Враг не давал времени для полного развертывания резервов Красной Армии в Белоруссии. Немецкая разведка, с помощью аэрофотосъемки, 1‑2 июля выявила выдвижение значительных сил Красной Армии к Днепру, к еще только создаваемому рубежу обороны от Орши до Речицы. Поэтому командование Вермахта возобновило наступление главных танковых сил ‑ 2-й и 3-й танковых групп и на их базе создало 4-ю танковую армию. Группа армий «Центр» получила новые дополнительные войска. В первом эшелоне наступали 28 дивизий ‑ 12 пехотных, 9 танковых, 6 моторизованных и одна кавалерийская. Во втором эшелоне ‑ 35 дивизий. Превосходство врага в живой силе и боевой технике стало подавляющим.
В итоге сражений, Западный фронт, находясь под главным ударом сил Вермахта, на всем советско-германском фронте за первые 18 дней войны, с 22 июня по 9 июля 1941 года, потерял в боевой технике, в общей сложности, 4 799 танков, 9 400 орудий и минометов, 1777 самолетов.
Такие колоссальные потери в бронетехнике были, конечно, не случайны. О слабом опыте стрельбы из танков, по сравнению с немцами, уже говорилось. Сказалось и то, что с предвоенных времен на практическую подготовку механика-водителя танка отводилось пять часов. Многие имели и того меньше ‑ только 1,5–2 часа практики управления танком, в то время как механики – водители Вермахта готовились не менее 50 часов. Похожее положение было и в авиации. Не лучше складывалась ситуация и с войсками. Из 55 пехотных, танковых, кавалерийских дивизий, 24 были полностью разгромлены, 20 дивизий потеряли от 30-и до 90 процентов личного состава и материальных ресурсов. Потери в живой силе составили 417 790 человек. Одиннадцать, уцелевших дивизий, отступали с тяжелыми боями разрозненно, не имея сплошной линии фронта. Сдержать противника, даже заметно замедлить его продвижение они не могли ‑ не хватало сил. Командование Вермахта, через свою разведку, допроса пленных, по захваченным документам, считало, что перед ними остались лишь эти одиннадцать, измотанных и обескровленных в боях, дивизий. И после сокрушительного поражения Западного фронта рассчитывало быстро, и легко взять Смоленск. А потом уже захватить слабо защищенную Москву, в срок до середины августа.[92]
Далее ‑ на юге овладеть Донецким бассейном, оккупировать основные промышленные центры в европейской части СССР и до 1-го октября завершить операции против СССР. Окончательной целью плана «Барбаросса» являлось создание оборонительного барьера против «азиатской России» и выход к зиме 1941 года на рубеж Астрахань–Волга–Архангельск. Генеральный штаб Вермахта планировал весной-летом 1942 года захватить Урал ‑ последний промышленный район Советского Союза, парализовав перед этим его работу с помощью авиации, а также захватить нефтеносные районы ‑ Баку, Грозный, Майкоп и районы Средней Азии. Рассчитывали, что в 1942 году немецкие войска встретятся с Японскими, наступающими через Дальний Восток и Восточную Сибирь, на границе реки Обь.
Вот такие перспективы перед нацистской Германией открывал выигрыш боев за восточную Беларусь и выход к Смоленску.
Значение исхода этих боев понимали не только в Берлине, но и в Москве. Высшее военное командование Красной Армии и Ставка Верховного Главнокомандования решили направить в Беларусь и в район Смоленска основные резервы и воссоздать Западный фронт, остановить врага. С этой целью Западному фронту 2-го июля было передано 43-и дивизии, 22 дивизии оставили в Группе резервных армий. В итоге на Московское направление с нашей стороны было выдвинуто 65 дивизий.
На Западном фронте протяженностью 800 километров, выдвинутые армии и дивизии, расположились так: на участке Полоцк‑Витебск ‑ 22-я армия с 6-ю стрелковыми дивизиями; в районе Витебска ‑ 19-я армия с 6-ю стрелковыми дивизиями; центральный участок у Орши, здесь ожидали главный удар, занимала 20-я армия с 9-ю стрелковыми дивизиями, 4-мя танковыми и 2-мя мотострелковыми дивизиями. Участок от Могилева до Быхова прикрывала 13-я армия с 6-ю дивизиями; самый южный район Рогачев–Жлобин ‑ 21-я армия с 10-ю стрелковыми дивизиями. Фронт получил две авиационные дивизии из внутренних округов, а также в авиационные части поступило 452 самолета с экипажами. Для боевых действий на фронте был привлечен и 3-й корпус дальних бомбардировщиков.
Но немцы ударили не там, где предполагал Генеральный Штаб Красной Армии. Не в центре – у Орши, а на севере ‑ в районе Полоцк‑Витебск, силами 3-й танковой группы. К 4 июля они вышли на рубеж Лепель–Улла–Полоцк и захватили плацдарм на восточном берегу Западной Двины в районах Дисны и Витебска. Против еще только подходящих частей 22-й армии в составе 6-и дивизий и разворачивающихся, не закончивших сосредоточение 6-и стрелковых дивизий (читай – только пехотные) 19-й армии, наступало 16 немецких дивизий. Из них 7 танковых и моторизованных, на участке в 200 километров от Себежского укрепленного района до Витебска. Встретив упорное сопротивление советских войск, немцы на помощь 3-й танковой группе перебросили 47-й моторизованный корпус из 2-й танковой группы, а это еще несколько моторизованных и танковых дивизий. Оборона Витебска продолжалась семь суток ‑ с 5 по 11 июля. Город непосредственно защищала 153-я стрелковая дивизия. Только за 5 июля защитники города подбили до 50 танков и уничтожили 500 солдат и офицеров врага. Дивизия отошла 11-го июля по приказу командования, так как враг ворвался в город, и завязались уличные бои. Особо при обороне Витебска отличилась 220-я стрелковая дивизия 19-й армии, которая отбивала ежедневно по 5‑6 атак противника. Еще 9-го июля фашисты ворвались в город при помощи танков, но советские воины дважды выбивали их из города, не смотря на численное и техническое превосходство захватчиков. Вместе с бойцами дивизии город стойко обороняли четыре батальона народного ополчения ‑ добровольной вооруженной части из местных жителей, многие из которых погибли, защищая родной город. Уцелевшие ополченцы отошли вместе с подразделениями 153-й стрелковой дивизии. Так, например, батальон Осовиахима (до войны организация аналогичная нынешнему ДОСААФ) занимал оборону на левом берегу Западной Двины в районе Мазурино ‑ пригорода Витебска. Когда 10-го июля, проведя артиллерийскую подготовку, гитлеровцы начали переправу через реку, бойцы батальона открыли сильный ружейно-пулеметный огонь и сорвали немцам переправу. В этом бою было уничтожено до батальона фашистов.
Самоотверженную храбрость проявила 11-го июля первая рота данного батальона, которая почти полностью погибла в боях за город, но не отступила. Враг захватил Витебск, но его оборона на неделю задержала большие силы Вермахта, а ведь счет шел даже не на дни, а на часы ‑ впереди был Смоленск. [93]
Пытаясь переломить ход боев на Витебском направлении, наше командование предприняло контрудар двумя мехкорпусами ‑ 5-м и 7-м 20-й армии в направлении Сенно и Лепеля. В этих мехкорпусах насчитывалось около 1 300 танков, в основном, устаревших типов, а у немцев только 300 танков. Произошло одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны, начавшегося 6-го июля и продолжавшегося пять дней ‑ по 10 июля. В начале советским танкистам сопутствовал успех, поскольку противник никак не ждал встречный удар, от якобы полностью разбитых советских войск. Мехкорпуса смогли продвинуться на 30–60 километров в районе Сенно, разгромили два моторизованных полка, нанесли большие потери гитлеровцам. Но потом были остановлены, а затем и окружены. Командование немецких войск быстро сориентировалось в обстановке и, после некоторого отступления, создало, с помощью крупных десантных сил, обстановку, давшую немцам возможность окружить наши части, воспользовавшись недостаточной опытностью и слабой подготовкой наших танкистов. Причиной неудач было еще и то, что наступление велось без серьезной подготовки, без артиллерийской и авиационной поддержки, без тесной увязки с действиями других армий, что закономерно и привело к провалу контрудара. За время боев оба мехкорпуса потеряли 832 танка. Такие потери были обусловлены и тем, что у немцев была хорошо организованная и многочисленная противотанковая артиллерия. В итоге Западный фронт снова оказался, всего за несколько дней, без большей части своих танков. Пришлось снова отступать, сдав Витебск.[94]
В результате, оказалась в трудном положении, глубоко охваченная с флангов, 22-я армия. В это же время дивизии 2-й танковой группы армий «Центр» форсировали Днепр у Быхова и Шклова в полосе 13-й армии и прорвали оборону советских войск. Чтобы избежать окружения 22-я и 13-я армии начали отход. Следом вынуждены были отступить и, стоящие в центре фронта, 19-я и 20-я армии. Трагический опыт окружения у советского командования уже был, и оно решило вовремя отвести войска, тем самым сохранить их для последующей обороны Могилева, Гомеля, Полесья. Пытаясь облегчить положение советских войск, Москва, в начале июля, отдала приказ о выброске на парашютах несколькими эшелонами в тыл врага 204-й воздушно-десантной бригады в район Любани и Волосовичей для изоляции и уничтожения подвижных соединений противника. Была поставлена задача: с помощью диверсий нанести удар по тылу немцев, в частности, уничтожить склады с горючим, инфраструктуру снабжения танковых и моторизованных группировок. Этой операцией Москва старалась помочь нашим частям в районе Бобруйска, где складывалась напряженная обстановка с угрозой выхода противника на Днепр. К сожалению, эти действия десантников не увенчались успехом. Тылы группы армий «Центр» были хорошо прикрыты 4-мя охранными дивизиями. Для советской стороны это был, хотя и кровавый, наглядный урок, насколько для десантирования спецгрупп в тыл врага в дальнейшем необходимо готовить условия, обеспечивающие их безопасность и боеспособность.
Упорные бои развернулись у Полоцка. Сражения проходили с 27 июня по 15 июля. Здесь сражалась 174-я стрелковая дивизия, опиравшаяся на ДОТы (разоруженные до войны и частично разукомплектованные) Полоцкого и Себежского укрепленных районов. С приближением фронта к Полоцку отошли 50-я стрелковая дивизия и разрозненные части 11-й армии. Уже 27 июня авангард немецких частей (механизированная колонна), хотел захватить мосты через Западную Двину в районе Полоцка. Авангард был уничтожен метким огнем 390-го гаубичного полка. Начальником Полоцкого боевого участка командование 22-й армии назначило комбрига Зыкина (к сожалению, даже в Энциклопедии «Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941–1945» нет его инициалов, нет в ней и статьи о нем). Были заново сформированы пять пулеметных батальонов в качестве гарнизонов для ДОТов. Город обороняли три полка 174-й стрелковой дивизии ‑ 494-й, 508-й, 628-й, а также 50-й полк и два сводных батальона 17-й стрелковой дивизии. 29 июня начались жестокие бои, с подошедшими частями противника. Стремясь сломить сопротивление Красной Армии, враг с 3-го июля обрушил на Полоцк массированный удар своей бомбардировочной авиации. Оборонявшие город части не сидели в пассивной обороне, а сами контратаковали колонны 3-й танковой группы Вермахта, которые шли на Полоцк 3-го июля 1941 года по дорогам Даугавпилс‑Полоцк, Молодечно‑Полоцк, и задержали вражеское продвижение. Наши войска 6-го июля выбили на западный берег Западной Двины танковые и моторизованные части гитлеровцев, захвативших 4-го июля несколько плацдармов. Уничтожили много танков и другой техники фашистов. На советские войска, обороняющие Полоцк, наступали пять немецких дивизий. Гитлеровцам удалось 9-го июля местами прорвать оборону защитников города. Основные же удары по нашим войскам враг нанес в обход Полоцкого укрепрайона и форсировал Западную Двину. Но оказанное сильное сопротивление не позволило немцам взять Полоцк.
Удержание Полоцка и Полоцкого укрепрайона на протяжении длительного времени, а не часов, как рассчитывало немецкое командование в своих планах, создавало серьезную угрозу флангам групп армий «Север» и «Центр». Терпеть такое положение командование Вермахта не могло и 12 июля против советских войск, оборонявших Полоцкое направление, были брошены 16 дивизий, в том числе 39-й и 57-й моторизованные корпуса. Этим силам, имевшим явное превосходство в живой силе и боевых средствах, удалось прорвать оборону Полоцка и окружить наши войска. Бои в Полоцком укрепрайоне шли до 19-го июля. Еще 16 июля, по приказу командования 22-й армии, начался, с боями, вывод 174-й дивизии из окружения, кольцо которого было прорвано 20-го июля. Оборона Полоцка задержала продвижение немецких войск и значительно затормозила немецкому командованию выполнение плана «молниеносной войны».[95]
Гитлеровские войска смогли захватить центральную и северо-западную часть Белоруссии, несмотря на большие потери. По данным Гальдера, по состоянию на 13 июля только в сухопутных войсках Германии на Восточном фронте было убито, ранено, пропало без вести более 92 тысяч человек, а урон в танках составлял в среднем 50%.
К 19 июля немецкие ВВС потеряли 1 280 самолетов. Таких потерь Вермахт до этого времени не знал, а ведь война только начала разворачиваться.
Фашисты в конце июня ‑ первой декаде июля 1941 года, используя свое превосходство в танках, господство авиации в небе, большую маневренность, с использованием значительного количества автотранспорта и бронетранспортеров, подготовку и опытность личного состава своих войск, сумели, не смотря на отчаянное сопротивление советских частей и соединений, захватить Минск, Бобруйск, Борисов, Витебск, Полоцк. Войска Вермахта проникли вглубь СССР на северо-западном направлении на 450–500 километров, на западном ‑ на 450–600 километров и на юго-западном ‑ на 300–350 километров. Не захваченными в Белоруссии остались юго-восточные районы. Контрудар под Сенно–Лепелем в сочетании с упорной обороной городов, развертыванием подошедших резервных армий, хотя и не в полном составе, позволили к концу дня 9-го июля организовать сплошной фронт советских войск, который немцы еще были способны подвинуть на восток, окружить отдельные части и дивизии, но таких масштабных окружений – котлов, как были в июне, у них уже не получалось, вплоть до октября 1941 года, когда развернулось решающее наступление Вермахта на Москву. На юге враг был остановлен на Киевском направлении, на севере ‑ на Ленинградском направлении (Лужский рубеж). Относительное продвижение было на западном направлении. Ощутимые потери в живой силе и боевой технике понесли немцы, несмотря на все свои успехи. К 10 июля было уничтожено, по имеющимся сведениям, 79 тысяч солдат и офицеров, 1061 орудий и минометов, 826 самолетов и 350 танков. Однако политическое и военное руководство нацистской Германии, находясь в эйфории от достигнутых успехов, считало, что еще одно решительное наступление на Московском направлении, еще один быстрый большой удар Вермахта на юге Белоруссии, взятие Смоленска, и цели войны будут достигнуты. Вот высказывание Гитлера 4 июля 1941 года: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить» Ему вторил начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии Гальдер. Он 3 июля записал в своем дневнике: «В целом теперь можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена… восточнее мы можем встретить сопротивление отдельных групп, которые принимая во внимание их численность, не смогут серьезно помешать наступлению германских войск. Поэтому не будет преждевременно сказать, что компания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будет сковывать наши силы еще в течение нескольких недель».[96]
Но, как говорит народная мудрость, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Очень рано гитлеровцы восторжествовали, явно не оценивая объективно, ни силы Красной Армии, ни упорства и мужества защитников Родины, ни сплоченности и готовности к жертвам советского многонационального народа.
Впереди были решающие бои лета 1941 года.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ
Захват Вермахтом Минска, окружение и разгром трех армий (3-й, 4-й, 10-й) и частично 13-й армии, оккупация западной и центральной части Беларуси и успешные бои немецких войск на северо-западе и в центре БССР, начало сражения на Смоленско‑Московском направлении в июле 1941 года, привели к активизации Квантунской армии Японии в Маньчжурии. Она была укомплектована по штатам военного времени и по плану «Кантокуэн» подготовлена к наступлению на СССР. Ее численность достигала 700 тысяч военнослужащих. Лучшие японские дивизии, половина всей артиллерии и две трети танков были сосредоточены на северо-востоке Китая. Для нападения на СССР, при «подходящей обстановке», предназначались 30 пехотных дивизий, две танковые дивизии и четыре авиадивизии. Началось подтягивание и турецких войск к советской границе в Закавказье. Так что ход боев за Могилев, Гомель, Мозырь и другие белорусские города должен был определить многое в ходе войны и осуществлении стратегии Вермахта «блицкрига» ‑ «молниеносной войны» и в планах гитлеровцев по захвату Москвы до 15 августа. Перед обороняющимися советскими войсками в Беларуси не стояла задача разгрома группы армий «Центр» ‑ сил и возможностей для этого было мало. Но сильно затормозить движение Вермахта, нанести немецким войскам серьезные потери, выиграть время для подготовки обороны Москвы, обучения и снабжения резервов Красной Армии, эвакуации промышленных предприятий в Поволжье, на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию ‑ такая задача ставилась военно-политическим руководством Советского Союза. Все, в данных условиях, решали самоотверженность, организованность, упорство и героизм тысяч советских военнослужащих, а также умелое командование руководства частей и соединений. Немецкое командование не хотело давать советским войскам хоть какую ‑ то передышку, возможность подтянуть и развернуть дивизии и возвести укрепления. Уже 10 июля части группы армий «Центр» ‑ 54 дивизии и 3 бригады, из них 9 танковых и 7 моторизованных, а также 8 дивизий из группы армий «Север» (всего 62 дивизии и 3 бригады) перешли в наступление. Эти силы поддерживала авиация (примерно тысяча бомбардировщиков и истребителей). В составе Западного фронта на 10 июля насчитывалось 66 дивизий, из них 20 дивизий имели, 50% состава, но оборону успели занять только 37 дивизий. В первом эшелоне находилось лишь 24 дивизии, имеющих 275 тысяч человек, 135 танков, 2216 орудий и 1 300 минометов. На всем Западном фронте было всего 380 самолетов. Соотношение сил непосредственно участвовавших в сражении, было в пользу врага: в живой силе 1,5 к 1; в артиллерии 1,7 к 1; в танках 7 к 1; в самолетах 3 к 1. С 10 по 15 июля фашисты бросили в наступление одновременно 30 дивизий, в том числе ‑ 16 танковых и моторизованных с целью рассечения фронта на три части: невельскую, смоленскую и могилевскую группировки Западного фронта и создания непосредственных возможностей для беспрепятственного продвижения к Москве.
Используя численное и техническое преимущество, гитлеровцы добились серьезных успехов. В середине июля их группировка насчитывала около 429 тысяч человек, 1 040 танков, более 6 600 орудий и минометов. Войска Западного фронта, кроме 21-й армии, вынуждены были отступить. 22-я армия была расчленена на две части и ее шесть дивизий вели упорные бои в окружении, проявляя мужество и стойкость. Ожесточенные бои 22-й армии шли до конца июля. После захвата немцами Витебска и Полоцка 19-я и 16-я армии вынуждены были отойти. Кратковременные, но крайне жестокие бои против многократно превосходящих сил врага вели воины 18-й, 73-й стрелковых дивизий и 1-й Московской мотострелковой дивизии 20-й армии. Они три дня стойко обороняли Оршу, но 1-я Московская дивизия получила приказ на контрудар в направлении на Копысь и отбросить, прорвавшиеся вражеские части 47-го танкового корпуса, переправившегося через Днепр, обратно. Но это наступление было плохо организовано: без авиационной и артиллерийской поддержки; без учета реально складывающейся стратегической обстановки. В результате уже 14 июля дивизия оказалась в окружении и небольшими группами пробивалась на восток. Только 1 200 бойцов и командиров сумели 16 июля выйти к фронту. Это ярко свидетельствовало еще и о неопытности и неумения командования армии и фронта подготавливаться и вести наступательные действия. За приобретение такого опыта приходилось платить кровью, территорией, отступлением еще дальше на восток.
14 июля под Оршей было впервые в войне применено «секретное оружие» Красной Армии ‑ реактивные минометы БМ-13, которые позже любовно назвали «Катюша». Это была батарея из 5-и установок, под командованием капитана И.А. Флерова. Данное оружие было принято на вооружение в середине июня 1941 года и производилось пока только на одном московском заводе ‑ «Компрессор». Начинка реактивных снарядов при первом их применении являлась по словам очевидцев фугасно-зажигательной и, когда снаряды взрывались, то все горело ‑ земля, броня, даже воздух. Первые залпы были даны днем по скоплению эшелонов противника на железнодорожном узле Орша и по сосредоточению живой силы и техники. Как вспоминал солдат 5-й дивизии Вермахта: «Это был кошмар. Не только наши солдаты были охвачены паникой, но и те, кто находился далеко в стороне от нас, спасались бегством». Сутки после этого гитлеровцы не вели наступательных действий, убирали разбитую и сожженную боевую технику, подбирали трупы своих солдат и офицеров. К сожалению, это была пока единственная батарея. С августа производство «КАТЮШ» значительно возросло. Началось формирование полков реактивной артиллерии.
Очень сильными были бои в районе Быхова, которые продолжались с 3-го по 10-е июля. Здесь оборону держали части 187-й стрелковой дивизии на фронте шириной 50 километров и по мере сил сдерживали натиск 10-й моторизованной и 4-й танковой дивизий Вермахта. После ожесточенного сопротивления и гибели многих бойцов, оборона дивизии была прорвана, что позволило противнику захватить плацдарм на восточном берегу Днепра и навести переправу. Контратаки трех наших дивизий (187, 148, 137) успеха не имели, но, заняв глухую оборону, они не позволили фашистам развить успех и продвинуться в глубину обороны армии. Сложилась крайне опасная обстановка. Дивизии 3-й танковой группы врага продвинулись на 150 километров и овладели Полоцком, Невелем, Демидовым. Соединения 2-й танковой группы продвинулись на 200 километров и захватили 16 июля Оршу, а 24-я моторизованная дивизия ворвалась в Смоленск. 17-го июля был занят Кричев. В районе Могилева была окружена 13-я армия. Дивизии 16-й, 19-й, 20-й армий так же оказались в окружении и вынуждены были отходить к северо-западу от Смоленска. 7-я танковая дивизия 3-й танковой группы смогла занять город Ярцево, который ближе к Москве, чем Смоленск. О трагическом драматизме середины июля 1941 года свидетельствует сообщение командующего, с начала июля Западным фронтом, Тимошенко в Ставку Верховного Главнокомандования 16 июля: «Подготовленных в достаточном количестве сил, прикрывающих направление Ярцево, Вязьма, Москва, у нас нет. Главное ‑ нет танков». До Москвы оставалось 350 километров. Предыдущие 700 километров Вермахт одолел за 25 дней.[97]
В этих условиях очень многое, если не все, решали героизм, мужество, стойкость и отвага защитников юго-востока Белоруссии ‑ Могилева, Гомеля, Полесья. От них зависело ‑ продвинутся ли дивизии Вермахта к Москве или завязнут, если не все, то в своем большинстве, в боях. Снова, как после 22 июня, надо было любой ценой выиграть время для подтягивания резервов, сооружения оборонительных рубежей, срочной эвакуации заводов и фабрик для разворачивания на Востоке страны оборонной промышленности, обучения и вооружения миллионов мобилизованных в Красную Армию. Но уже был восстановлен, хотя и отступающий, Западный фронт, накапливался боевой опыт у советских войск. И это дало возможность остановить немецкие войска на Лужской оборонительной линии на Ленинградском направлении, на юге ‑ под Одессой и Киевом. У Вермахта ситуация тоже была не однозначная: в значительной степени израсходованы резервы на покрытие потерь, фланги группы армий «Центр» не были надежно защищены. С каждой неделей возрастало сопротивление Красной Армии, моральный дух и населения, и армии, не был сломлен, не смотря на крупные поражения советских войск и быстрое продвижение гитлеровцев.
Первостепенным и важным пунктом удара фашистских войск был Могилев. Фактически он стал второй (после Минска) столицей БССР. Сюда переехали из Минска ЦК Компартии Белоруссии, правительство республики, штаб Западного фронта, где с первых дней войны находились Маршалы Советского Союза Шапошников и К.Е. Ворошилов. Им передали 27 июня немецкую трофейную карту и надежные разведывательные данные, добытые разведчиками 13-й армии. На основании захваченных у немцев нашими разведчиками штабных оперативных документов, и оперативной карты, и с учетом иных разведданных, было определено, что основной удар Вермахта в Белоруссии, а не на южном направлении, как ошибочно до этого полагали. 2-го июля в Могилев прибыли Нарком обороны Тимошенко, и он же, по совместительству, командующий Западным фронтом, а также начальник Главного политуправления Красной Армии Л.З. Мехлис. По их требованию в Белоруссию ускоряется переброска пяти резервных армий ‑ двух с Украины и трех из внутренних военных округов. Было принято решение о строительстве двух тыловых рубежей обороны и одного, промежуточного, с опорой на реки Березина, Друть, Днепр.
Оборона Могилевского направления была поручена 61-у стрелковому корпусу 13-й армии, а непосредственно города и подступов к нему ‑ 172-й стрелковой дивизии и 14-и батальонам народного ополчения, сформированных ко второму июля. Севернее города до Копыси оборону заняли 110 –я Тульская и 53-я Саратовская стрелковые дивизии. Южнее Могилева, в сторону Быхова, 187-я стрелковая дивизия. Кроме них на Могилевском направлении в целом действовали 1-я Московская мотострелковая дивизия (до середины июля), части 20-го механизированного корпуса и 4-го воздушно-десантного корпуса. Они оборонялись без танковых частей и надежного авиационного прикрытия. 3-го июля разведывательные отряды 172-й дивизии в 35–50 километрах от Могилева вступили в бой с передовыми подразделениями 46-го корпуса 2-й танковой группы немцев. В ходе столкновения около деревни Чечевичи и городского поселка Белыничи, наши воины уничтожили 14 танков и около роты врага. Сама оборона Могилева продолжалась 23 дня и подразделяется на три этапа. Первый этап, с 3-го по 9-е июля включает бои разведывательных и передовых отрядов на дальних подступах. Второй, ‑ с 9-го по 16 июля, включает в себя упорные оборонительные на основной полосе обороны, и многочисленные контратаки. Третий этап, ‑ с 16-го по 27 июля войска, оборонявшие город, вели бои в окружении. На Могилев наступали 4-е пехотные дивизии (23-я, 7-я, 15-я, 263-я) и 3-я танковая, а также моторизованная дивизия СС «Великая Германия», и некоторые другие части. Оборону на западном берегу Днепра осуществляли, перекрывая оба шоссе, 338-й и 514-й полки, а затем ‑ 394-й полк. На восточном берегу прикрывал левый фланг 747-й стрелковый полк 172-й дивизии. До конца сражались артиллеристы, не пропуская танки противника. 5-го июля командир артдивизиона Б.Л. Хигрин, заменив раненого наводчика, лично уничтожил шесть танков. В этом бою Б.Л. Хигрин погиб. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Под давлением превосходящих сил противника, наши части были вынуждены отойти к основной полосе обороны. Критический момент в защите Могилева наступил 10‑11 июля. Немецкие войска прорвали оборону 187-й стрелковой дивизии, державшей 80-и километровый участок. О глубине обороны не могло быть и речи. 4-й и 46-й танковые корпуса врага сумели выйти на подступы к Могилеву, вклинившись в оборону 122-й дивизии в некоторых местах на 16 километров. Но в районе деревень Буйничи и Тишовка, они наткнулись на жесткий отпор 389 стрелкового полка, который удерживал свои позиции до 17 июля. В этом бою, который продолжался 12 часов, гитлеровцы потеряли 39 танков и бронетранспортеров, а также более батальона солдат и офицеров. И это был не единственный бой. У деревни Сидоревичи воины 747-го стрелкового полка уничтожили 20 танков и бронетранспортеров, свыше роты противника. Стойко сопротивлялись защитники города у деревень Пашково и Гаи, где оборону держал сводный батальон милиции. Не утихали бои и на Буйничском поле. Здесь осталось не менее 20 подбитых бронемашин фашистов. Однако 16 июля войскам Вермахта удалось замкнуть кольцо окружения в 100 километрах восточнее Могилева, в районе Чаус.
Начались бои за овладение немцами Могилевом.
Врагу пришлось дорого платить за каждый шаг вперед, за каждый метр продвижения.
За первые десять дней обороны (5‑15 июля) по данным штаба 172-й стрелковой дивизии, было отбито 27 атак, подбито и сожжено 179 танков и бронетранспортеров, уничтожено не менее 4-х тысяч солдат и офицеров врага. В районе Могилева в окружении оказались также части 20-го механизированного, 61-го и 45-го стрелковых корпусов. После захвата немцами Чаус прекратился подвоз боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Но бои по-прежнему продолжались с неутихающим упорством. Гитлеровцы вынужденно признавали: «Русские стояли до последнего. Они были неуязвимы, как с тыла, так и с флангов. Поэтому каждую стрелковую ячейку, каждую противотанковую и артиллерийскую позицию, каждый дом пришлось брать с боем». С 17 июля для штурма города были дополнительно привлечены еще четыре пехотные дивизии (258-я, 78-я, 34-я, 10-я). Только тогда гитлеровцам удалось ворваться в город. Начались ожесточенные уличные бои. В ходе сражения в окружении, по оценке командования 172-й дивизии, было убито и ранено немецких военнослужащих в пределах двух дивизий, нанесен значительный урон их боевой технике. Бои продолжались и около Могилева. 19-го июля в районе деревень Бутримовка, Тишовка, Веккер и Буйничи гитлеровцы потеряли в бою до 30 танков и самоходных орудий.
25-го, когда кольцо осады сузилось, генерал М.Т. Романов ‑ командир 172-й дивизии, принял решение прорываться из окружения, выходить к линии фронта. Но этот прорыв в ночь на 26 июля удался только частично. В группе прорыва окружения находился и писатель Константин Симонов, описавший, позже, в своей повести оборону Могилева и все последующие события. Писатель завещал после смерти развеять его прах над Буйничским полем, что и было исполнено. Остатки дивизии добирались к своим по одиночке, или небольшими группами. Непрерывно по пути прорывающихся частей Красной Армии шли немецкие войска, широко используя свои артиллерию, минометы, танки, авиацию.[98]
Могилевское сражение отвлекло значительные силы немцев от Смоленска и более чем на три недели приковало их к себе, а ведь каждая дивизия Вермахта в эти дни очень нужна была фашистам, для развития их наступления на Москву. Советское командование, несмотря на потери в личном составе в ходе Смоленской битвы, с 10-го июля до 10-го сентября, получило, очень нужное, время для накопления сил и для подготовки новых рубежей обороны. Да и потери Вермахта в боях за юго-восточную Беларусь были очень чувствительные. Итогом было резкое замедление наступления немецких войск на Москву. Сражения в районе Могилева и оборона самого города, по праву заслужили эпитет «героические» и остались в памяти народной навеки, прославлен литературно и в кино.
Намного ожесточеннее, чем рассчитывало немецкое командование, было сопротивление советских войск не только на Могилевском направлении, но и на Гомельском. Особо жесткие и острые бои развернулись в районе междуречья Березины и Днепра, в районе Бобруйск–Рогачев–Жлобин, а также за Гомель. Здесь значительную роль сыграл 63-й стрелковый корпус, под командованием Л.Г. Петровского, в составе трех дивизий. В конце июля 1941 года корпус развернулся на восточном берегу Днепра на рубеже Щапчицы–Годиловичи–Рогачев–Жлобин–Стрешин. Уже 3-го июля части 3-й танковой дивизии 24-го танкового корпуса гитлеровцев попытались форсировать Днепр в районе Рогачева на участке обороны 167-й стрелковой дивизии, но встретив упорное сопротивление советских воинов, вынуждены были отступить. 6-го июля нашими войсками была проведена разведка боем. Части 117-й дивизии на рассвете форсировали Днепр, атаковали позиции врага и овладели Жлобином. Гитлеровцы вначале отступили. Но немцы вскоре подтянули две дивизии ‑ 10-ю моторизованную и 225-ю пехотную. Завязались упорные бои. Ночью наши воины наши части вынуждены были отойти на восточный берег Днепра. Но эта разведка боем четко показала, что внезапная и успешная переправа советских войск возможна, и что оборона фашистов не такая уж и непробиваемая, особенно если действовать значительными силами.
На юго-восточном направлении оборону держали три армии: 3-я, недавно восстановленная и укомплектованная мало обученными и слабо вооруженными призывниками; 13-я, которая имела лишь 30% личного состава от положенной штатной численности и не располагавшая танками. Некоторые части армии и вовсе не имели даже стрелкового оружия. 21-я, была наиболее сильная, имевшая девять дивизий уже закаленных в боях. Эта армия состояла из трех корпусов ‑ 63-го, 66-го и 67-го, в каждом из которых было по три дивизии. В начинающейся битве за Смоленск и Могилев, Ставка и командование Западного фронта поставили задачу войскам 21-й армии, которой командовал генерал Ф.И. Кузнецов, вести активную оборону и нанести мощный контрудар в общем направлении на Бобруйск, выйти в тыл могилевской группировке врага и максимально оттянуть на себя войска группы армий «Центр», так как, прикрывающие Гомельское направление соединения находились в стороне от главного удара гитлеровцев и немецкое командование не ожидало активности наших частей на этом участке.
13 июля все три корпуса 21-й армии внезапно для немцев перешли в наступление. Переправившись через Днепр, три дивизии 63-го корпуса начали наступление на Рогачев и Жлобин. Продвижение корпуса составило двенадцать километров, и лишь на подступах к этим городам немцы сумели создать устойчивую оборону, развернув 53-й корпус. Бои за Рогачев и Жлобин носили крайне ожесточенный характер и часто доходили до рукопашных схваток. Уже к концу 13 июля Жлобин был полностью освобожден от немцев, а к вечеру 14 июля врага вышибли и из Рогачева. Было захвачено много трофеев: 20 орудий, 5 танков, большое количество винтовок, автоматов, пулеметов. На месяц Красное знамя освобождения и символ нашей, пусть и небольшой, но Победы водружено над городом. Не все нам отступать! Теперь враг отходит на запад!
Этот успех сильно сказался на моральном состоянии бойцов и командиров. Вот что писал в письме своим близким военнослужащий Теряев: «Нахожусь на фронте не в качестве отступающего, а в качестве наступающего. Хватит, довольно. На нашем участке немец отступает, хотя и медленно. Когда мы отступали, больно было смотреть на местных жителей, которым приходилось оставаться, их ждала жизнь под властью фашистов. Со слезами на глазах они провожали нас, но мы ничего не могли сделать…». Одновременно 67-й стрелковый корпус начал наступление в районе Быхова и, к концу 13 июля, перерезал железную дорогу Быхов‑Рогачев. 66-й корпус, при поддержке Пинской военной флотилии, ударил на Бобруйск и весь день продвигался на Паричи. Наступление частей Красной Армии продолжалось и в последующие дни. На запад от Жлобина они продвинулись до 30 километров. Бои шли в окрестностях Бобруйск и в 25‑40 километрах южнее, а 232-я дивизия 66-го стрелкового корпуса продвинулась на 80 километров и захватила переправы на реках Березина и Птичь. Для группы армий «Центр» сложилась опасная обстановка на ее южном фланге, остановить наступление 21-й армии немцы, имеющимися силами, не могли. Они вынуждены были направить против 21-й армии два своих армейских корпуса из резерва группы армий «Центр» и еще снять с фронта у Смоленска две пехотные дивизии. Только этими силами немцы смогли остановить наступление нашей армии. Начались тяжелые бои. Своими активными действиями 21-я армия прочно сковала до 15-и немецких дивизий, сорвав их наступление на Гомель. Одновременно, и уничтожить рубежи советских войск на Днепре, и наступать дальше Смоленска у Вермахта не хватало больше сил, несмотря на то, что группа армий «Центр» была самой большой ударной группировкой захватчиков.
Здесь свое веское слово сказала и советская кавалерия в составе 32-й, 43-й и 47-й кавалерийских дивизий. По личному приказу Сталина и под руководством главного инспектора кавалерии Красной Армии генерал-полковника О.И. Городовикова в районе Речицы были сосредоточены три кавалерийских дивизии. 22-го июля войска кавгруппы под общим командованием полковника А.И. Бацкалевича, уроженца Беларуси, приступили к выполнению рейда. В качестве проводников выступили более 20-и бойцов Василевичского истребительного батальона Полесской области. В многодневном рейде отличились добровольцы этого батальона В. Макаров, А. Сиротин, Н. Дейкун, Н. Лавшук, Е. Шульга, А. Золотарев, Н. Савченко. Наиболее успешно действовала 32-я кавдивизия. 47-я Кубанская и 43-я Донская кавдивизии попали под удары вражеской авиации и понесли потери. 24-го июля кавалеристы освободили районный центр Глусск и разгромили полк мотопехоты противника. Через два дня, 26 июля, совершив 60-и километровый марш, кавалеристы заняли другой райцентр ‑ Старые Дороги, а 28-го июля лихим ударом захватили железнодорожную станцию Татарка и перерезали сообщение по важной железной дороге, питавшей войска 2-й танковой группы и 2-й армии немцев.
Кавалерийская группа нанесла внезапный удар по Осиповичам, которые были важным железнодорожным узлом, где пересекались дороги на Минск, Могилев, Гомель, Слуцк. Но здесь кавгруппа была блокирована немецкими войсками. Только кавалеристы 32-й дивизии уничтожили более 2 тысяч солдат и офицеров противника, взорвали шесть железнодорожных и шоссейных мостов, сожгли 150 автомашин. Это вызвало панику в штабе группы армий «Центр», так как она не имела своих резервов на данный момент и не могла ликвидировать прорыв. Командующий группы армий «Центр» фельдмаршал фон Бок обратился за помощью в верховное командование Вермахтом. Против кавалерийской группы из резерва главного командования были брошены три дивизии. Завязались тяжелые бои и 5-го августа остатки 32-й кавалерийские дивизии отошли и соединились с частями 21-й армии. Однако и враг понес чувствительные потери. Во время наступления войска 21-й армии нанесли большой урон восьми вражеским дивизиям.[99]
Немецкое командование решило вплотную заняться советскими войсками, которые угрожали правому флангу группы армий «Центр» и очень мешали добиться успеха в районе Смоленска, отвлекая, так нужные Вермахту, дивизии. Как позже писал командующий 2-й танковой группой генерал Гудериан: «Перед тем, как перейти в наступление на Москву или предпринять какую-либо другую операцию, нам необходимо было предварительно выполнить еще одно условие ‑ обеспечить свой правый фланг у Кричева, расположенный глубоким уступом назад. Очистка этого фланга от войск противника была необходима еще и для того, чтобы обеспечить 2-й армии наступление на Рогачев».
Но это мнение, пусть крупного, пусть авторитетного, но одного генерала Вермахта. А что решает верховное военное командование (ОКВ)? 19 июля принимается дополнение к директиве № 33, в котором говорилось: «Первоочередная задача состоит в том, чтобы ликвидировать вклинившиеся далеко на запад, фланговые позиции противника, сковывающие крупные силы пехоты на обоих флангах группы армий «Центр». Для этого 2-я танковая группа должна повернуть с главного направления (Смоленск‑Москва) на юг, чтобы нанести удар советским войскам в районе Гомеля и во фланг основным силам Юго-Западного фронта, которые обороняли Киев».
Окончательное решение по данному вопросу, вероятно, было принято Гитлером на совещании 4-го августа в штабе группы армий «Центр» в Борисове. Уже после войны немецкие генералы назовут это решение «роковым» для достижения победы над СССР в 1941 году. Оно на два месяца отсрочило наступление немецких войск на Москву, до 30 сентября ‑ 2 октября 1941 года, и дало возможность Красной Армии укрепиться и лучше организоваться. Но не принять такого решения высшее военно-политическое руководство нацистской Германии не могло по чисто военным соображениям – из-за упорных боев советских войск на рубеже Днепра, у Могилева, Гомеля, Полесья, что срывало планы наступления на Москву после захвата Смоленска. Это было решение не одного Гитлера, а и его лучших генералов из высшего военного руководства рейха. Сам Гитлер свидетельствовал что, когда заслушав доклад на совещании в Борисове об огромных потерях Вермахта, отметил, что если бы перед войной он в достаточной степени был проинформирован о силе Красной Армии, то принять решение о необходимости нападения на СССР, ему было бы значительно тяжелее.[100]
Говоря о героическом сопротивлении сухопутных и воздушных сил, необходимо сказать о поддержке советских войск на суше моряками и кораблями Пинской военной флотилии, которая была образована в 1940 году из частей Днепровской военной флотилии. К началу войны она насчитывала, кроме вспомогательных судов и двух штабных кораблей, 7 мониторов, 4 канонерские лодки, 30 бронекатеров, минный заградитель «Пина» и 7 тральщиков. Всего 49 боевых судов и 2 300 матросов, старшин и офицеров. Кроме этого, флотилия располагала авиационной эскадрильей, зенитным артиллерийским дивизионом, ротой морской пехоты. В начале войны флотилия пополнилась за счет мобилизованных кораблей и судов гражданского флота на четыре канонерские лодки, 1 катера-тральщика, 10 сторожевых катера и 10 сторожевых кораблей. Еще сюда перешли два монитора из Дунайской речной военной флотилии.
Получив в ночь на 22 июня предупреждение о боевой готовности по всему флоту, данное Адмиралом Советского Союза Н.Г. Кузнецовым, ровно в 4-е утра 22 июня корабли передового отряда и основных сил флотилии вышли из Пинска навстречу врагу. Утром 23 июня передовой отряд подошел к Кобрину, а основные силы флота находились у Днепро–Бугском канале в 16–18 километрах от города. Но вечером 23 июня немецкие танки ворвались в город Кобрин, а мотопехота с артиллерией вышли на берег канала. Гитлеровцы открыли один из шлюзов канала. Вода стала быстро уходить. Суда флотилии могли оказаться на мели. Чтобы этого не случилось, корабли были выведены в реку Пина и заняли оборону западнее Пинска. С 24 июня по 4-е июля корабли флотилии вели оборону Пинска. Отсутствие боеприпасов вынудило советские войска отойти. Немцы захватили Пинск 5 июля. Флотилия, с боем, отошла к Лунинцу. 6-го июля флотилия и 75-я стрелковая дивизия вели оборону на линии Лунинец‑Туров, а уже на следующий день моряки помогли партизанскому отряду, под командованием В.З. Коржа, быстро и без потерь переправиться через реку Припять. Командование флотилии (контр-адмирал Д.Д. Рогачев), по просьбе Коржа, выделило партизанам 30 килограммов тола, капсюлей, бикфордова и детонирующие шнуры, продовольствие.
10-го июля отряд из сотрудников НКВД по Пинской области и рота Пинской военной флотилии вели бой с врагом, засевшем в деревне Ольшаны. Руководил боем майор Дмитраков, командовавший батальоном красноармейцев и обороной Турова. Однако, вскоре после начала артподготовки, флотилия прекратила огонь из-за отсутствия снарядов. По заявлению Дмитракова, в тот день имелось в наличии 400 снарядов, которые должны были обеспечить ведение боя, но в действительности оказались пригодными 50‑60 штук. Имевшийся у флотилии запас снарядов, не был пригоден для ведения боя из пушек флотилии. Противник открыл ураганный огонь из автоматов, пулеметов, пушек. Что произошло со снарядами, почему они оказались непригодными для использования флотилией в бою? Расхлябанность и беспорядок в снабжении боеприпасами или чья-то враждебная деятельность, которая подставила красноармейцев, сотрудников НКВД, матросов, и корабли под беспощадный удар врага, сорвав важную, для обороняющихся, операцию?
К 11-му июля флотилия была разделена для лучшей управляемости, в связи с быстро меняющейся обстановкой, на три отряда: Березинский (на реке Березина в составе Западного фронта во взаимодействии с 21-й армией); Припятский (на реке Припять вместе с частями 4-й и 5-й армий Западного фронта); Днепровский (на реке Днепр, взаимодействуя с 26-й и 38-й армиями Западного фронта). Моряки флотилии активно участвовали в обороне Лунинца, Турова, Бобруйска, Гомеля.
Приведем всего два примера боевых действий кораблей флотилии в июле 1941 года. 12 июля под покровом ночи монитор «Бобруйск» Припятского отряда, под командованием старшего лейтенанта Ф.К. Семенова, прорвался в тыл немецким войскам на 30 километров, обстрелял из своих орудий скопление войск противника в Давид Городке, по заранее разведанным целям. В результате враг потерял четыре орудия, более 50-и машин с грузами и боеприпасами, до 200 солдат и офицеров убитыми. Гитлеровцы перебрасывали свои войска из Лунинца в Давид Городок, тем самым создавая опасность наступления фашистов на Мозырь вдоль правого берега Припяти. Но такое положение было только до огненного удара монитора. После грамотного использования монитора «Бобруйск», немецкое наступление вдоль берега реки было приостановлено на несколько дней. 25-го июля немецкие войска возобновили наступление в полосе 21-й армии. При этом враг усиленно перебрасывал свои части через мост у местечка Паричи на левый берег Березины для форсирования Днепра и наступления на Гомель. По данным разведки, к исходу 25 июля, в районе Парич находилось около двух пехотных дивизий, усиленных танками, бронемашинами, артиллерией. Советским войскам нужен был внезапный удар по скоплению войск противника и переправе у местечка Паричи. Командование 21-й армии приказало решить эту задачу Березинскому отряду Пинской флотилии. В ударную группу был выделен монитор «Смоленск», под командованием старшего лейтенанта Пецуха, и три бронекатера – БКА-202, БКА-204, БКА-205. Нужно было форсировать передний край обороны гитлеровцев, подняться вверх по руслу реки Березины на 10–12 километров, занять выгодную позицию для стрельбы прямой наводкой с дистанции 3–4 километра, сделать несколько огневых налетов и, до рассвета, вернуться назад, так как в воздухе с утра начиналось господство немецкой авиации. Противник имел в районе Парич многочисленную артиллерию и мог организовать сильный огонь по кораблям. Гитлеровцы считали Паричи своим тылом, так как фронт на востоке проходил в 40–45 километрах, а на юге 18–20 километров от них. Переправу прикрывали не только на земле, но и с воздуха.
Расчет советских моряков был на внезапность. Вечером 26 июля корабли пошли в смертельно опасный рейд. На правом берегу незаметно был высажен корректировочный пост, с радиостанцией и полевым телефоном, под командованием лейтенанта П.А. Малышева. К концу 26 июля корабли, не будучи обнаруженными противником, заняли огневые позиции.
В артобстреле врага приняли участие 122-двух мм гаубицы. При большой скученности войск и боевой техники, огонь был эффективным. У немцев воцарились паника и растерянность. Отдельные пролеты моста были поражены, начали рваться штабеля боеприпасов у переправы, загорелись бензоцистерны и склады горючего. Ответный огонь фашистов был слабым, и били они «по площади». Корректировщики быстро установили место нахождения крупнокалиберной вражеской батареи, и она была разбита огнем со «Смоленска». Но гитлеровцы были опытными военными и обнаружили, при отходе, наши корабли, стянули противотанковую артиллерию, легкие танки и бронемашины, устроили засаду. «Смоленск» был поврежден ответным огнем, тяжело ранен рулевой, снаряд попал в машинное отделение. Однако моряки выстояли командор матрос Загребальный, сменил за штурвалом рулевого, в машинном отделении в живых осталось только два человека ‑ матросы Кот и Тихомиров, который был ранен осколком в живот, но они обеспечили ход кораблю. В бронекатер БКА-205 попал бронебойный снаряд, и он сел на мель. Фашисты надеялись его захватить вместе с матросами. Но командир катера, младший лейтенант С.Ф. Стужко и политрук Махоткюн, прикрыли отход команды пулеметным огнем, а катер взорвали. Корректировщиков сняли другие бронекатера, как и уцелевших матросов с БКА-205. Артиллерийским огнем монитора и бронекатеров была разрушена переправа, уничтожено до 100 единиц бронетехники и автомашин с войсками и грузами, ликвидированы склады боеприпасов и горючего, убиты и ранены сотни гитлеровцев. Все это заставило вражеское командование почти на сутки прекратить переправу войск, замедлило темпы наступления на этом участке фронта, позволило командованию 21-й армии усилить резервами сражающиеся части.
Далее ‑ снова бои. И без потерь их не бывает. 514 человек потеряла Пинская военная флотилия, моряки которой не жалели ни сил, ни жизни ради победы над врагом. Флотилия поддерживала артиллерийским огнем наши сухопутные войска, разрушала вражеские переправы и прикрывала свои, высаживала в тыл противника тактические десанты и разведывательные группы. К осени 1941 года вся Белоруссия уже была захвачена фашистами и поэтому корабли флотилии, в ночь с 30 на 31 августа, с боем прорвались к Киеву, чтобы помочь в защите столицы Украины.
Даже в донесениях Абвера в Берлин признавалось: «Разведгруппам (от авторов ‑ с танками, тяжелой артиллерией, при поддержке авиации) не удалось захватить ни на Припяти, ни на Днепре русские военные суда, которые оказывали серьезное огневое сопротивление на реках, что сдерживало наше наступление в Белоруссии».[101]
И это происходило в условиях, когда корабли были ограничены руслами рек, без оборудованных наземных баз, под ударами пикировщиков и крупнокалиберной артиллерии врага. Нашим воинским частям часто приходилось отступать.
Честь и слава советским морякам, которые смогли, в этих труднейших условиях, хорошо воевать и бить противника. С середины июля боевые действия войск Западного фронта разделились на два относительно равных участка ожесточенной борьбы. Один ‑ в районе Смоленска, другой ‑ в районе Гомеля. 24 июля, для лучшего управления и оперативности руководства Ставка образовала новый, Центральный фронт из трех армий ‑ 21-й, 13-й и 3-й, под командованием Ф.И. Кузнецова. Членом Военного Совета фронта был назначен 1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.К. Пономаренко. Начальником штаба назначили полковника Л.М. Сандалова. Бывший начальник штаба 4-й армии, разгромленной в приграничном сражении в июне 1941 года, чудом избежал ареста и расстрела вместе с другими руководителями Западного фронта, к концу войны дослужился до звания генерал-полковника и должности начальника штаба 4-го Украинского фронта. Л.М. Сандалов еще до войны закончил две военные академии, был талантливым штабным работником, а такими квалифицированными кадрами не разбрасывались, особенно на фоне их острой нехватки.
Гитлеровским командованием на Гомельское направление к концу июля были переброшены вся 2-я танковая группа и 2-я пехотная армия из пяти корпусов, в общем количестве более 25 дивизий, что резко изменило соотношение сил. Последним успехом наступления 21-й армии стало освобождение Кричева (30 июля) в ходе напряженных боев. Однако, 2 августа 4-я танковая дивизия Вермахта нанесла контрудар юго-западнее Кричева и ворвалась в Рославль. 8 августа два немецких корпуса (24-й и 7-й) расчленили части 13-й армии, что не позволило ей из-за больших потерь построить эффективную оборону на реке Сож. С утра 12 августа, после сильной артиллерийской и авиационной подготовки, немецкие войска перешли в наступление на участках 21-й и 13-й армий. Разгорелись ожесточенные бои по всему фронту. Имея значительное численное превосходство, немецкие корпуса начали теснить наши части, пытаясь окружить и уничтожить основную группировку 21-й армии в районе Довск ‑ Рогачев ‑ Жлобин. Упорные бои развернулись в Костюковичах. К концу 13 августа 50 вражеских танков ворвались в Костюковичи, но их дальнейшее продвижение остановили советские части и Костюковичский истребительный батальон. Но силы были неравны и 14 августа подразделения Красной Армии были вынуждены оставить Костюковичи, а 15 августа Хотимск. Части 7-го армейского корпуса и 10-й моторизованной дивизии немцев 12 августа форсировали реку Сож на участке Чериков‑Пропойск (ныне Славгород) и расчленили боевые порядки 13-й армии на несколько частей. Исход борьбы решил, прибывший 24-й танковый корпус 2-й танковой группы немцев. Остатки 13-й армии стали отходить на юго-восток. Для них участие в боях за Белоруссию закончилось.
12 августа три дивизии Вермахта форсировали Днепр в районе Стрешина и начали наступление в направлении Довска. Наш 63-й стрелковый корпус оказался в окружении. Командование Центрального фронта принимало меры для поддержки сражающихся войск. Из резерва фронта в войска влились десять рот политбойцов, состоящих только из коммунистов и комсомольцев, стойко державшихся на своих позициях под нажимом врага. В район Стрешино был переброшен запасной стрелковый полк. Из резерва Ставки в район Гомеля стали прибывать две стрелковые дивизии (266-я и 277-я). Но этих мер оказалось недостаточно. 63 и 67 корпуса, оборонявшиеся в районе Довск ‑ Рогачев‑Жлобин, оказались в тяжелом положении под ударами многократно превосходящих, сил противника и начали 17 августа отход с боями на Гомель вдоль восточного берега Днепра. 18 августа упорные бои развернулись за райцентр Ветка, который обороняла 55-я стрелковая дивизия. Несколько раз райцентр переходил из рук в руки, часто вспыхивали рукопашные схватки. Дивизия не только оборонялась, но и контратаковала. Только подтянув свежие части, гитлеровцы смогли захватить Ветку. Наши части на этом участке вынуждены были отойти в леса севернее Добруша.
Стойко удерживали занимаемые позиции, в 10‑15 километрах севернее Гомеля, отряды, руководимые комбригом Н.И. Гусовским. Вместе с ними город обороняли 18 отрядов народного ополчения общей численностью в 6 700 человек. Действовало и несколько истребительных батальонов. Через Сож были наведены два наплавных моста. Вели огонь по врагу, на участке железной дороги Гомель – Костюковичи, легкий бронепоезд, а в районе Ново-Белицы, тяжелый бронепоезд. Они до последнего сражались с танками и артиллерией фашистских войск. Если враг и продвигался, то устилал землю сотнями убитых и раненых, десятками разбитых танков и сбитых самолетов. Это признавали сами гитлеровцы. В докладе командующего 2-й полевой армии генерала М. фон Вейхса от 17 августа указывалось: «Дневные бои весьма жесткие. Русские, ведомые многочисленными офицерами и комиссарами, сдаются очень редко, и, в большинстве случаев, вопрос решается в бою на ближних дистанциях». Гарнизон Гомеля на 17 августа составлял всего три с половиной тысячи человек, сдержать многочисленного врага он не мог. Утром 18 июля немецкие войска обошли с востока оборонительные позиции советских войск, и вышли к юго-восточной окраине города. Гарнизон принял бой, хотя бойцы и командиры хорошо понимали весь трагизм ситуации. На следующий день боевые действия перекинулись на улицы города. После массированного авиационного налета, как по обороняющимся войскам, так и по жилым кварталам, части 2-й немецкой полевой армии прорвались и захватили северную и западную части Гомеля. Упорные бои весь день и вечер 19 июля проходили в районе городского парка, конного завода, речного порта, авторемонтных мастерских. Крайне жестокие схватки шли у переправ через Сож, которые обороняющиеся сумели взорвать, не допустив их захвата противником. Только в 23 часа штаб Центрального фронта отдал распоряжение на отвод войск из города. На левом берегу Сожа, в Ново-Белице, бои продолжались еще трое суток. На два с половиной года Гомель оказался под фашистской оккупацией.
За время боев на гомельском направлении, на ближних подступах к городу и в самом городе, частями Красной Армии и ополченцами, по опубликованным данным, было уничтожено свыше 80 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, более 200 танков, около 100 самолетов. Очень дорого нацистским войскам обошлось преодоление Днепра и Сожа.[102] В итоге битвы на Днепровском рубеже, Березине и Соже, наиболее крупная группировка Вермахта ‑ группа армий «Центр», с двумя, из четырех, танковыми соединениями, при поддержке господствующего в воздухе 2-го воздушного флота, не смогла продвинуться далее Смоленска и Ярцево, не смогла выйти (в июле-августе) на штурм Москвы. Немецкому высшему военному командованию (ОКВ) пришлось, в результате героического сопротивления советских войск в Белоруссии и в других регионах, повернуть 2-ю танковую группу на Могилев, Гомель, Полесье, а 3-ю танковую группу направить на прорыв Лужского оборонительного рубежа под Ленинградом. Успешно наступать на Москву одними пехотными дивизиями гитлеровцы не могли. 30-го июля 1941 года, впервые за всю Вторую Мировую войну, Вермахт на главном направлении перешел к обороне, что было отражено в директиве № 34 ОКВ. Нападение Японии на СССР было отложено «до лучших времен», со стороны Турции тоже наблюдалась тишина. Гитлер, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре заявил, что Москва для него не более чем географическое понятие и теперь самое важное захватить Киев, Донбасс, Крым и Ленинград. К этому его подталкивало не только положение на фронтах, но и успешная радио игра советской контрразведки, о которой будет речь в 12-й главе.
На самом юге Белоруссии, в Полесье, в июле-августе также шли упорные бои, хотя оно оказалось несколько в стороне от удара главных сил Вермахта. Здесь на помощь советским войскам пришли многочисленные отряды народного ополчения и истребительные батальоны. В июле, на протяжении всего нескольких суток, снова была создана 3-я армия, командующим которой был назначен генерал-лейтенант В.И. Кузнецов. Части его армии защищали Полесье с центром в Мозыре. Более двух недель защищали райцентр Туров советские части: 75-я стрелковая дивизия, 18-й погранотряд, моряки Пинской речной военной флотилии, Туровский истребительный батальон. Враг захватил Туров 15 июля, но в ночь с 3 на 4 августа красноармейцы, под командованием капитана Даниленки, вместе с созданным 23 июня, Туровским партизанским отрядом, выбили оккупантов из Турова и из близлежащей деревни Озаряны. На протяжении августа они неоднократно отбивали атаки гитлеровцев. 14 августа фашисты ворвались в Туров, но совместным ударом красноармейцев и партизан Туров снова был освобожден. Только 23 августа Туров окончательно был захвачен немцами. За каждый населенный пункт шли упорные бои: в Паричском районе бои шли за 36 населенных пунктов, Октябрьском ‑ за 27. В боях также уничтожалась бронетехника врага. Так с 6 по 9 июля в Глусском и Паричском районах подразделениями Красной Армии, вместе с истребительными батальонами, подбили около 30 танков и бронемашин гитлеровцев.
Такая ситуация на юге Белоруссии не могла не тревожить высшее руководство Третьего рейха. 25 июля начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии генерал-фельдмаршал В.Кейтель заявил командующему группой армий «Центр»: «Особенную обеспокоенность фюрера вызывает в нынешнее время район Мозыря, где, согласно его оценке, создается новая мощная вражеская группировка, за счет войск, которые действовали перед правым крылом 2-й армии и фронтом 6-й армии, причем, возможно, она имеет значительное количество артиллерии». Через несколько дней он же дополнил, что Гитлер рекомендует повернуть значительную часть сил группы армий «Центр» на юг, что дало бы возможность окружить советские войска в районах Гомеля и Мозыря.
В результате против 3-й советской армии, не имевшей ни танков, ни прикрытия с воздуха, развернули наступление часть сил танковой группы и 2-й полевой армий. Длительная задержка основных сил 2-й армии в районе Гомеля никак не устраивала командующего группой армий «Центр» фон Бока. 22 августа он дал приказ отбросить советские части, оборонявшиеся южнее и юго-восточнее города (Мозырь был захвачен немцами 20 августа) и как можно быстрее занять переправы в районе Чернигова. В свою очередь, Ставка приказала нашим войскам удерживать этот район (Полесье) до отвода 3-й армии Центрального фронта и 5-й армии Юго-Западного фронта в северные районы Украины. В журнале боевых действий группы армий «Центр» отмечалось: «Здесь снова подтверждается предшествующий опыт, что русские, несмотря на угрозу с флангов и тыла, не покидают своих оборонительных позиций». Советские воины успешно выполнили поставленную задачу, несмотря на значительный перевес сил противника. Штаб группы армий «Центр» с явным недовольством отмечал: «Противник держится южнее Гомеля с целью дать возможность отхода 3-й и 5-й русских армий на восток».
В Полесье шли ожесточенные бои. Еще 16 августа две дивизии Вермахта (25-я и 45-я) начали наступление на Мозырь, на подступах к которому их пыталась задержать 214-я воздушно-десантная бригада. По данным, против двух полков бригады, наступало не менее восьми полков гитлеровцев. На шесть дней сковали силы двух дивизий Вермахта воины – десантники, но гитлеровцам удалось захватить Мозырь. 3-я армия оказалась в котле, и чтобы избежать полного разгрома, частям армии пришлось переправиться через Днепр и отступать в район Трубчевска (Украина). Некоторые части Красной Армии ‑ где роты, где полки продолжали сражаться в окружении до начала сентября. Битва за Белоруссию лета 1941 года завершилась.
Центральный и Западный фронты не смогли, в силу неравенства сил, малого количества танков и самолетов, недостатков в руководстве войсками и еще малого опыта боевых действий, выдержать удары группы армий «Центр» и, несмотря на весь героизм, самоотверженность и стойкость, советские воины проиграли эту битву. Но они смогли сделать главное ‑ оттянуть основные силы врага против Москвы на полтора месяца на себя, нанести ему большой урон в людях и боевой технике, фактически сорвать выполнение плана «Барбаросса», молниеносной войны, перенаправив главные удара Вермахта с центра на юг и север.
Почему советские войска в целом потерпели в Белоруссии поражение летом 1941 года? Дело было не только в количестве танков, самолетов, создании немцами высокомобильных ударных группировок, большом опыте у гитлеровского командования, но и в наших недостатках и ошибках. Несмотря на принятие 30 июля нового плана войны, его осуществление в жизнь шло плохо. Переход к стратегической обороне затянулся. Ставка Верховного Главнокомандования ставила войскам задачи, не считаясь с отсутствием необходимых предпосылок для их успешного выполнения. Особо уязвимым местом являлась низкая обеспеченность боеприпасами, горючим, малое количество и неумелое использование противотанковой артиллерии, зениток и самолетов. Все это приводило к огромным потерям в живой силе. В ходе Смоленского сражения Западный фронт потерял 469 584 человека, из 579 400. Потери в войсках Центрального фронта были тоже не малыми ‑ 107 225 человек. И это было не случайным. Выдающийся полководец Г.К. Жуков делает из таких поражений, такого отступления, таких потерь горький, но честный вывод: «В начале войны мы плохо воевали не только наверху, но и внизу. У нас стесняются писать о неустойчивости наших войск в начальный период войны. А войска… не только отступали, но и бежали, и впадали в панику». Данное положение было далеко не везде и не всегда, иначе гитлеровцы выиграли бы войну, но то, о чем говорил Жуков, тоже было и об этом нельзя умалчивать.[103]
Успех в Белоруссии дорого обошелся фашистам. К началу августа 1941 года вражеские танковые дивизии 2-й и 3-й танковых групп потеряли до шестидесяти процентов своих танков и автомашин, а также более одной трети личного состава. Нацистская Германия летом 1941 года была в состоянии восполнять свои потери в живой силе и технике, но эти потери уже неумолимо подтачивали мощь ударных группировок Вермахта, что переводило войну из молниеносной (блицкрига) в затяжную, ничего хорошего не сулившую гитлеровцам, кроме полного, со временем, поражения. Так что крах блицкрига начался летом 1941 года в Белоруссии, а завершился в декабре 1941 под Москвой.
Все жертвы, все потери Красной Армии были не напрасны ‑ они позволили затормозить, а позже повернуть фашистское нашествие назад, в его логово ‑ в Германию.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Истребительные батальоны в Белоруссии
Фашистски агрессоры стремились максимально быстро разгромить находящиеся в Белоруссии части и соединения Красной Армии, захватить города и деревни, поработить белорусский народ. Они хотели подорвать тыл советских войск, получить необходимые сведения, чтобы наносить смертельно ‑ опасные авиационные, танковые, артиллерийские удары, парализовать промышленность, транспортные коммуникации, сеять панику среди населения, захватывать пункты управления и связи, подрывать работу партийно-советского аппарата, уничтожать коммунистов, комсомольцев, советско-хозяйственный актив, сотрудников госбезопасности и милиции.
С этой целью фашисты забрасывали в тыловые районы Белоруссии, сотни своих агентов. Забрасывались не только одиночки, но и целые группы разведчиков и диверсантов в тылах советских войск. Обычно фашисты выбрасывали группы по 20‑60 человек, с мотоциклами и велосипедами для большей мобильности, и по 4‑6 человек с рациями. Большое количество забрасывалось в тыл наших войск, так называемых, «сигналистов», которые с помощью ракет и световых сигналов указывали важные цели для вражеской авиации. Часто шпионы, диверсанты и террористы гитлеровцев были одеты в красноармейскую или командирскую форму, гражданскую одежду и имели, правдоподобно выглядевшие, документы. Многие из них хорошо владели русским или белорусским языками, знали наши порядки, четко придерживались разработанных немецкой разведкой «легенд».
В первые дни войны, агентура и разведывательно-диверсионные группы Абвера, и специального полка «Бранденбург», провели ряд успешных операций, в результате которых захватывались мосты, уничтожались проводные линии связи, радиоузлы. Они указывали ложные пути продвижения наших автоколонн с войсками, наводили авиацию для массированных бомбежек выдвигающихся частей, захватывали ценные документы, проводили террористические акции против командно-политического состава, убивали или захватывали в плен офицеров связи и отдельных командиров воинских подразделений, распространяли ложные и провокационные слухи. Жизненно необходимым было навести четкий порядок в тылу Красной Армии, обеспечить безопасность в городах, деревнях, на транспортных коммуникациях, и обезвредить возможных шпионов, диверсантов, террористов. Особо сложно было это сделать при перемещениях по территории Белоруссии сотен тысяч человек населения: до двух миллионов принимали участие в сооружении оборонительных позиций. Около 1,5 миллиона уходили пешим порядком, при активном участии железнодорожного и автомобильного транспорта, эвакуировались далеко на Восток вместе с оборудованием заводов, фабрик, учреждениями, культурными, образовательными, медицинскими организациями. Одних сотрудников органов НКВД–НКГБ БССР для этого в военное время было недостаточно. Тем более, что многие из них ушли для усиления Особых отделов частей и соединений (военная контрразведка), а другие направлялись для действий в создаваемые партизанские группы и отряды. Третьи же, где позволяла обстановка, перебрасывались в города и населенные пункты ‑ в организуемое патриотическое подполье. В связи с этим нужна была вооруженная массовая, военизированная и добровольная структура из политически надежных местных кадров ‑ рабочих, колхозников, служащих, интеллигенции, которые хорошо знали, как людей, так и местность, и могли действовать быстро и решительно.
Такая структура в общесоюзном масштабе возникла 24 июня 1941 года в результате решений Совнаркома СССР (правительства) «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и «Об охране предприятий и организаций, и создании истребительных батальонов». Формировались они главным образом из представителей партийного, советского, комсомольского актива, из добровольцев, подходящих в физическом плане и подготовленных в военном отношении, но не подлежащих призыву в Красную Армию. В Белоруссии формирование истребительных батальонов началось объединением вооруженных рабочих отрядов и групп самообороны, созданных в самые первые дни войны, а местами и в первые часы, местными руководящими органами в соответствии с директивой ЦК КП(б)Б от 23 июня «Об организации борьбы с вражескими диверсантами и парашютистами». Эта директива адресовалась всем областным и районным комитетам компартии, а также исполнительным комитетам районных Советов. Повсеместно организовывались вооруженные добровольные формирований для борьбы с вражеской агентурой, диверсантами и шпионами, а также охраны важнейших сооружений и для круглосуточного наблюдения за территорией района. Враг должен быть своевременно обнаружен и уничтожен.
Высокий патриотический подъем трудящихся обеспечил быстрое формирование и массовость истребительных подразделений. Их создание и деятельность курировалась как партийными комитетами, так и органами НКВД–НКГБ Белоруссии. На командные должности назначали коммунистов: командиров внутренних войск и запаса, работников госбезопасности и милиции, не призванных в армию по общей или партийной мобилизации. В силу быстрой оккупации фашистскими войсками западных и центральных районов республики, истребительные батальоны не создавались, за исключением Минска и отдельных подразделений в Белостокской, Барановичской и Пинской областях (о них будет сказано дальше).
Истребительные батальоны участвовали в оборонительных боях, но, в основном, ликвидировали группы противника, которые прорывались в наш тыл. Они боролись с диверсантами и воздушными десантами врага, делали на дороге завалы и «волчьи ямы», ликвидировали последствия налетов гитлеровской авиации, спасали материальные и культурные ценности, проводили разъяснительную работу среди населения, являлись качественным пополнением частей Красной Армии. Истребительные батальоны возникали и действовали в июне-августе в юго-восточных, юго-западных, северо-западных районах республики, там, где была возможность для их организации и действий по охране тыла советских войск, помощи в эвакуации населения, в создании условий для бесперебойной работы дорожного и автомобильного транспорта.[104]
Для исторической правды надо отметить два момента. Во-первых, истребительные батальоны возникли не на пустом месте – еще 26 мая 1941 года, об этом уже упоминалось, ЦК КП(б)Б принял постановление «Об организации на территории Белоруссии постоянных групп и отрядов по уничтожению авиадесантов противника»). И органы НКВД–НКГБ начали организацию их структуры, подбор кадров, обеспечение оружием и боеприпасами еще до войны. Во-вторых, директива ЦК КП(б)Б от 23 июня появилась, в качестве инициативы на местах, раньше, чем решения Совнаркома СССР от 24 июня. Так что в этом вопросе руководство Белоруссии было в самом начале создания этих формирований.
Где, когда и в каком количестве личного состава образовались истребительные батальоны? В ряде мест, в начале войны, их именовали истребительными отрядами. Уже в первый же день вторжения вражеских войск на территорию Белоруссии, в западных районах республики началось формирование отрядов самообороны. Их бойцами были партийные и советские работники, местные жители, многие из которых воевали вместе с пограничниками. В селе Свят-Гурска Сопоцинского района Белостокской области 22 июня был организован отряд, в который вошли 40 человек. Они вместе с красноармейцами отразили все атаки врага, а потом, когда советские войска начали отходить на восток, влились в их ряды. В первый день войны бессмертной славой покрыл себя отряд самообороны, созданный в райцентре Домброво Белостокской области. Во главе его стоял секретарь райкома партии Н.П. Гончаров. Возглавляемые им, коммунисты и беспартийные, сражались за свой город до последнего патрона, пока в живых не осталось ни одного добровольца.
Отряд самообороны был организован в первые же часы войны и в Сокулке, той же области. Бойцы взяли под охрану предприятия, телеграф, отделение госбанка, вокзал. Когда гитлеровцам все же удалось ворваться в Сокулку, патриоты влились в ряды воинской части и воевали вместе. Активно действовал отряд самообороны в Гродно, во главе которого стоял первый секретарь горкома партии И.Б. Позняков. Отрядом были приняты меры по охране важных объектов. По просьбе Познякова, командующий 3-й армией В.И.Кузнецов, дал указание выделить для отряда 75 винтовок. Хорошо себя показали железнодорожники, связисты, медицинские работники, команды местной противовоздушной обороны. Вооруженный актив охранял важнейшие промышленные и государственные объекты, патрулировал улицы.
Мужественно действовали добровольцы в Лиде (Барановичская область). Они активно участвовали в операции по ликвидации вражеских диверсантов – уничтожили 12 и взяли в плен 14. Боролись также с последствиями налетов вражеской авиации. Так, в Жабинке (Пинская область) отряд самообороны, возглавляемый работниками райисполкома, смело и самоотверженно действовал по ликвидации пожаров, возникших на железнодорожной станции в результате бомбежки авиацией. На подступах к Пинску вели бои части 75-й стрелковой дивизии. Вместе с бойцами дивизии защищал Пинск и, созданный 22 июня 1941 года, истребительный отряд во главе с В.З. Коржом. 28 июня отряд скрытно занял оборону. Добровольцы — И. Чуклай и С. Корнилов, забросали гранатами два немецких танка, стремившихся ворваться в Пинск. Один из них подбили, а второй повернул назад. 4-го июля 60 бойцов Пинского истребительного батальона, имевших на вооружении винтовки, один ручной пулемет и несколько гранат, разгромили эскадрон противника и уничтожили 17 кавалеристов. Надо было хотя бы на полдня задержать гитлеровцев и отправить поезд с эвакуированными.[105]. Что и было сделано.
23 июня ЦК КПБ(б) принял постановление об организации вооруженных рабочих и трудящихся для усиления охраны предприятий и порядка в Минске. В столице в каждом из трех районов города и при горкоме партии были созданы истребительные отряды. В них записались сотни минчан. В составе отрядов были рабочие, служащие, студенты, учащиеся. Для их вооружения предусматривалось просить Военный Совет Западного фронта выделить 5 000 винтовок, но приказа о выдаче оружия с военных складов не было. Истребительные отряды, как и Осовиахимовские отряды по борьбе с авиадесантами, имели одну винтовку на десять человек. Но, несмотря на это, добровольческие подразделения действовали активно. Бывший командир одного из истребительных отрядов в Минске Э.С. Соколовский вспоминает: «Десанты вражеских парашютистов вылавливались и истреблялись в радиусе 25‑40 километров. Так был ликвидирован воздушный десант в районе деревни Обчак – юго-восточнее Минска, у Острошицкого Городка – севернее Минска (у этого населенного пункта было несколько десантов), у Валерьян, по Слуцкому шоссе и так далее. В каждом из этих районов противник высаживал от 25 до 150 человек. Бойцы истребительных отрядов вместе с бойцами Красной Армии и местным населением уничтожали гитлеровцев». Бойцы отряда Октябрьского района Минска обнаружили, окружили и уничтожили около десяти десантных групп фашистов в районе Уручье, Сухоруки, Колодищи. Один из отрядов в Минске, состоявший из рабочих различных предприятий, был разделен на три взвода. Вначале они патрулировали улицы. На счету отряда ликвидация нескольких групп противника. Успешно действовал молодежный добровольческий отряд Минского железнодорожного узла, который уничтожил более шестидесяти гитлеровцев. Позднее, в ходе боев около Минска, многие добровольцы из истребительных отрядов воевали вместе с регулярными частями Красной Армии. Так, бойцы отряда Кагановичского района, вместе с воинами 64-й стрелковой дивизии, удерживали рубеж в 20 километров северо-западнее Минска. Отряд минчан- добровольцев, в количестве нескольких сотен человек, два дня стойко оборонял отведенный ему участок в районе Красного Урочища.[106]
24-го и 25-го июня обстановка в Борисове становилась все более тревожной. Сюда проникли диверсанты в форме воинов Красной Армии, сотрудников НКВД и милиции. Агенты противника распространяли провокационные слухи, диверсанты из-за угла стреляли в командный состав. Фашистская авиация бомбила город на Березине. По инициативе секретаря Борисовского райкома партии И.А. Яроша, в городе и во многих сельсоветах района были созданы истребительные отряды. Бойцы отрядов действовали днем и ночью. Борисовские добровольцы обезвредили диверсантов, светосигналами указывавших авиации район моста через Березину. Диверсанты противника были схвачены на железнодорожной станции Новосады, в Бродовских лесах, в районе деревни Чернявка Борисовского района. Ничего взорвать или захватить диверсионным группам гитлеровцев не удалось.
Веселовский истребительный отряд, который возглавлял местный фельдшер Ярош, вел постоянную разведку по дороге из Плещениц на Борисов. 29-го июня добровольцы зафиксировали появление врага в районе моста через Березину. Сразу сообщили об этом в гарнизон. К деревне Веселово выдвинулось воинское подразделение, которое вместе с добровольческим формированием завязало бой с фашистами и задержало вторжение частей Вермахта с северо-запада. Подобную поддержку оказали члены истребительного отряда деревни Чернявка, под командованием Нестеровича. Выброшенный здесь парашютный десант противника был рассеян.
До 30 июня оборону держали курсанты танкового училища, сформированные подразделения, сотни рабочих и служащих города, объединенные в истребительные группы. Советские воины и добровольцы народных вооруженных подразделений двое суток отражали атаки гитлеровцев с танками и бронетехникой. На третьи сутки бои у Борисова стали еще сильнее. С той и другой стороны в сражении участвовало до трехсот танков.
Очень хорошо проявили себя советские войска и бойцы добровольческого народного формирования в дни обороны Полоцка (с 27 июня по 15 июля). Здесь развернулась боевая деятельность бойцов и командиров Полоцкого истребительного батальона под командованием С.П. Портнова. Добровольцы, вооруженные винтовками и пулеметами, с 5 по 15 июля вели разведку, охраняли важные объекты, участвовали в оборонительных боях. Под охрану были взяты электростанция, лесозавод, хлебозавод, железнодорожное депо, мосты через Западную Двину и другие объекты. Об этом свидетельствует командир взвода истребительного батальона П.Е. Гуков: «Моему взводу была поставлена задача: взять под охрану железнодорожную станцию Громы, включая все важные объекты в этом районе, депо, электростанцию и подходы к двум мостам через Западную Двину». Добровольцы захватили одиннадцать гитлеровских разведчиков, обезвредили диверсанта пытавшегося взорвать электростанцию в Громах.
Подразделение истребителей, под руководством И.П. Горбункова, по заданию командования 174-й стрелковой дивизии, постоянно вело разведку. Участвовали добровольцы и в уничтожении парашютного десанта в районе железнодорожной станции Дретунь.
Чтобы обеспечить подрыв мостов на реке Западная Двина, взводу истребителей и красноармейцам 15 июля, в условиях сильного штурма немцами Полоцка, пришлось выдержать тяжелый бой на подступах к станции Громы. В это время бойцы батальона, под непрерывным огнем фашистов, сумели взорвать мосты и задержать врага.
В первых числах июля в Витебске также был создан истребительный батальон, который выполнял, возложенные на него функции. Через несколько дней на его базе развернули полк, который в дни боев за город действовал на оборонительных рубежах вплоть до 15 июля. Истребители держали фронт вместе с воинами 153-й стрелковой дивизии.[107]
Большую роль в защите тыла советских войск в прифронтовой полосе играли истребительные батальоны, созданные в Могилевской, Гомельской, Полесской, Витебской областях, в городах и райцентрах. Они действовали в условиях все возрастающего сопротивления вновь сформированного Западного фронта, вступлением в бои с Вермахтом, переброшенных в Беларусь пяти резервных армий, развертыванием двухмесячного Смоленского сражения. К середине июля во всех районах Гомельской и Полесской областях действовали истребительные батальоны. Здесь их было организовано тридцать семь (19 в Гомельской и 18 в Полесской) с количеством бойцов более пяти тысяч человек. Батальоны формировались исключительно на добровольческой основе, и состояли из коммунистов, комсомольцев, работников милиции и других советских органов. Активную борьбу с авиадесантами противника, вели бойцы Новобелицкого, Тереховского, Рогачевского и Добрушского, а также Мозырского, Глусского, Туровского и Калинковичского районов Полесской области. Их действия резко снизили эффективность вражеских диверсионных и разведывательных групп, забрасываемых в тыл советских войск.
Создавались истребительные батальоны и в других областях: в Могилевской – 14 с численностью 4169 человек личного состава; в Витебской ‑ 26 с примерно 3,5 тыс. Организовывались они и в областных центрах: в Гомеле – 3, в Могилеве – 1, но многочисленный – более 500 человек. Надо отметить, что ни численного, ни структурного единообразия эти добровольческие части не имели.
Например, в Железнодорожном районе Гомеля в истребительном батальоне было более 400 человек, а в Оршанском – 1200, в Жлобинском (Гомельская область), в Лельчицком и в Туровском (Полесская область) – по 150-170 человек. В истребительных отрядах была та же картина: в Гродно – 75 человек; в Белостокской области – 40-50; в Пинске отряд состоял из трех отделений, по двадцать человек в каждом, и небольшой группы разведчиков. В целом в не оккупированных врагом районах Беларуси в июле-августе было создано семьдесят восемь истребительных батальонов с более чем тринадцатью тысячами личного состава. Эти батальоны смогли навести необходимый порядок в тылу советских войск, во многом обезвредить и авиадесанты, и разведывательно-диверсионные группы врага, пресечь панику и распространение ложных слухов, провести нужные меры по нормализации и быстрейшему проведению эвакуации. Они, при необходимости, вместе с частями Красной Армии вели оборонительные бои, но основная часть их работы была в тылу. О некоторых операциях истребительных батальонов будет рассказано ниже.
Так, четвертого июля пост истребительного батальона, находившийся на охране телеграфа в Гомеле, заметил световые сигналы, подаваемые из парка. Были задержаны два человека в военной форме, которые оказали вооруженное сопротивление. Они были уничтожены. Позже были арестованы в парке еще двое лазутчиков. Фашистская авиация так и не получила нужной наводки для бомбежки важного узла связи. На шоссейной дороге Гомель–Довск, по которой к фронту шла интенсивная переброска наших войск, вдруг появились милиционеры-регулировщики. Однако добровольцы были правильно сориентированы и вовремя разоблачили очень опасную диверсионную группу гитлеровцев. Вражеские разведчики имели задание незаметно занять регулировочные посты, выявить направление движения советских войск, состав грузов, умышленно создавать пробки, направлять автотранспорт по ложному пути. Расчет делался на неразбериху и страх перед представителями «органов», но враг просчитался.
Операции по ликвидации диверсантов и десантов часто проходили с боями. Например, командиру Могилевского истребительного батальона сообщили, что недалеко от мясокомбината, во ржи, скрываются фашисты. Сколько их, как вооружены – информации не было. Уничтожение врага было поручено группе во главе с работником НКВД А.С. Баньковским. Вскоре они обнаружили десантников противника, и завязался бой. А.С. Баньковский бросился вперед, решив отрезать путь к отходу немецким разведчикам, и открыл меткий огонь. Он сражался до последнего вздоха и не дал уйти врагу. В целом истребительными подразделениями Могилева были ликвидированы более 150 диверсантов и шпионов, в Гомеле обезврежены 115 диверсантов. Группы диверсантов и террористов (от 10 до 15) были выявлены и уничтожены в Мозырском, Речицком, Ельском, Петриковском районах Полесской и Гомельской областей.
Истребительные батальоны вели разведку войск противника, их продвижения и дислокации, что являлось особенно важным в условиях часто отсутствующей сплошной линии фронта и быстро меняющейся обстановки. Так, в Октябрьском истребительном батальоне (Полесская область) для ведения разведки сформировали отряд. Возглавил его В.С. Лесюков – старший оперуполномоченный районного отдела НКВД. Разведка проводилась непрерывно, о появлении фашистов в районе докладывалось немедленно. Следует отметить, что бойцы овладевали военным делом в трех постоянно действующих группах, и в ходе занятий, изучали устройство стрелкового оружия, осваивали методы борьбы со шпионами и диверсантами. Особое внимание уделялось способам разведки в тылу врага. Лесюков организовал в ряде деревень группы из местного населения, которые активно помогали истребителям. 13-го июля разведчики отряда Лесюкова заметили передвижение войск захватчиков к Рожанской переправе на реке Птичь. Штаб, получив эту информацию, немедленно выслал группу добровольцев, которые взорвали мост, таким образом, не допустили прорыва частей Вермахта.
Это был далеко не единичный факт. В июле разведка Паричского истребительного батальона (Полесская область) донесла о появлении в соседнем районе вражеской бронетехники. Бойцы батальона устроили засаду и уничтожили три бронемашины. Враг повернул назад. По данным разведчиков, наша авиация уже летом 1941 года прицельно бомбила войска противника. Так, В.С. Кирковец, разведчик Мозырского истребительного батальона, добыл сведения о сосредоточении войск врага и расположении их складов в районе железнодорожной станции Птичь. Используя его информацию, наши бомбардировщики нанесли точный удар. В августе 1941 года В.С. Кирковец был награжден орденом Красной Звезды.
Активно боролись истребители и, с заброшенными в тыл, фашистскими диверсантами, сигналистами, шпионами. Особо они отличились в период более чем трехнедельной обороны Могилева. Например, группа добровольцев, под командованием Г.В. Ковалева, обезвредила девять фашистских диверсантов. Истребители из Могилевского истребительного батальона Галковский, Бурместренок, Ходасевич, Курпартин задержали семь немецких агентов, нейтрализовали более двадцати диверсантов и шпионов, которые должны были подавать сигналы фашистской авиации для наведения на военные объекты. При патрулировании улиц города истребители встретили военного с ромбами в петлицах. Ромбы тогда носил высший командный состав Красной Армии. Бойцы потребовали предъявить документы. «Военный» рассвирепел, стал возмущаться. Но это не подействовало, и его доставили в штаб. Лазутчик был разоблачен.[108]
Нередко гитлеровские разведчики обнаруживались и задерживались вскоре после их выброски с самолетов. Не помогало им и десантирование в сельской местности, а также в ночное время. Недалеко от Гомеля, в районе деревни Волотава, июльской ночью, появился вражеский самолет. Он сделал несколько кругов и улетел. Командир истребительного батальона Центрального района Гомеля, после подозрительного прилета и маневров самолета, тотчас выслал роту для прочесывания местности. Взвод, под командованием Архипова, действовал быстро и энергично. Многие бойцы хорошо знали местность, уверенно и умело ориентировались ночью. В результате фашистам скрыться не удалось ‑ восемь человек были захвачены бойцами-истребителями. Высокую бдительность проявили бойцы отделения под командованием Азова, из этого же истребительного батальона. Они, под Гомелем, задержали трех парашютистов с рацией, ракетами, вооруженных пистолетами и гранатами.
Отличились бойцы ряда истребительных батальонов и в борьбе с боевой авиацией врага, несмотря на то, что у них не было ни зенитной артиллерии, ни даже зенитных пулеметов, а только винтовки. Бойцы из Лиозненского батальона (Витебская область) огнем из стрелкового оружия сбили бомбардировщик. Истребители Полесской области сумели сбить три гитлеровских самолета. Со сбитых самолетов захватывали иногда и летчиков. Так, гитлеровская авиация бомбила и обстреливала железнодорожную станцию Калинковичи (Полесская область). При очередном налете, 1-го июля, патрули истребительного батальона открыли пулеметный огонь. Поврежденный самолет был вынужден пойти на посадку и сел в районе деревни Антоновская Рудня. Истребители получили задание захватить экипаж самолета, если он уцелел. Пока бойцы добрались, летчики скрылись в лесу. При задержании фашисты открыли огонь, и, в результате перестрелки, один летчик был убит, а другой тяжело ранен. Двух членов экипажа пленили, еще один скрылся, но был захвачен 2-го июля с помощью местных жителей. Один из экипажа оказался полковником ВВС Германии.
Помогали бойцы истребительных батальонов в проведении переброски через линию фронта наших групп в тыл врага. Жлобинский истребительный батальон (Гомельская область) обеспечил отправку из районов, находящихся под угрозой оккупации, 5 тысяч тонн зерна, 200 тонн муки, 100 тонн сахара. Этот же батальон помог забросить за линию фронта семь диверсионных групп. При налетах вражеской авиации на железнодорожные станции, где шла разгрузка наших войск, истребители проявляли самоотверженность, стараясь предотвратить или не допустить негативного развития событий. Так, на станции Орша 2-го июля выгружался 97-й стрелковый полк 18-й дивизии. Во время выгрузки личного состава и военного имущества произошел авианалет и бомбежка. Был подожжен вагон, рядом с которым находился эшелон с боеприпасами. Вместе с красноармейцами действовали истребители. Они сумели, под пулеметным обстрелом с самолетов, отцепить горящий вагон и откатить его по рельсам от боеприпасов. Взрыв был предотвращен, а боеприпасы вовремя отправлены фронту.
Нельзя сказать, что фашистским диверсантам, разведчикам, террористам ничего не удавалось осуществить. Враг был многочисленным и опытным. В отдельных случаях они убивали и местных граждан, и воинов Красной Армии, по ночам подавали ракетами сигналы для своей авиации. В Рогачеве (Гомельская область) группа диверсантов пыталась захватить телеграф и прервать связь. Во время одного из налетов, в другом райцентре, были убиты часовой и начальник почты. В тоже время был застрелен из-за угла редактор районной газеты ‑ немцы стремились запугать население и сорвать выход газеты. В Могилеве в июле, на перекрестке улиц Ленинской и Карла Либкнехта, террористы убили двух постовых милиционеров. Враги хотели посеять панику. Но все же эти попытки запугивания и террора были единичными случаями. Истребительные батальоны успешно пресекали деятельность вражеской агентуры, диверсантов и террористов, заброшенных к нам в тыл. [109]
Однако остановить Вермахт на территории Белоруссии не удалось. Хотя и с большими потерями, гитлеровцы все же оккупировали юг республики. Истребительные батальоны, учитывая продвижение противника, частично вливались в ряды отступающих частей советских войск, а многие переходили к партизанским методам борьбы, оказывая посильную помощь, развертывающемуся народному вооруженному сопротивлению.
Помогали они будущим партизанам и в создании баз. В июле-августе 1941 года, при активном содействии истребительных батальонов под руководством сотрудников госбезопасности и милиции, в тайниках было сосредоточено значительное количество оружия, боеприпасов, медикаментов, продовольствия, одежды, обуви. Партизанские базы закладывались в еще не оккупированных врагом районах: Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской областей. Многие из них послужили материальной основой в начале борьбы, организованных и засланных из-за линии фронта, партизанских групп и отрядов, которые часто объединялись с самостоятельно возникшими партизанскими формированиями. Ради исторической правды следует отметить, что некоторые базы, из-за недостаточной конспиративности при их закладке или предательства отдельных лиц, были уничтожены оккупантами и первым партизанам летом – осенью 1941 года нередко приходилось начинать с нуля.
Во многих случаях сами истребительные батальоны становились базой для организации партизанских формирований. С 6-го июля, согласно директиве ЦК КП(б)Б и Совнаркома БССР, истребительные батальоны в районах боев включались в народное ополчение, (о чем будет сказано ниже), а в случае оккупации местности переходили к партизанским методам борьбы. Директиву очень быстро приняли к исполнению, так как она отвечала вопросам всемерной борьбы с гитлеровцами. В начале июля, с бойцов Октябрьского истребительного батальона (Полесская область), начали формироваться партизанские группы. Такие группы возникли и в Пинском истребительном отряде. Полесский обком партии (секретарь П.А. Левицкий) 23 июля принял решение о преобразовании истребительных батальонов в партизанские отряды на всей территории области.
В начале войны в Глусском районе (Полесская область) был создан истребительный батальон, но, когда под напором противника наши войска оставили райцентр, батальон стал партизанским отрядом. Сто семь бойцов Меловского истребительного батальона (Витебская область) 18 июля создали свой отряд. В Лоевском районе (Гомельская область) батальон состоял из 105 бойцов и командиров. Под угрозой оккупации сначала были созданы две партизанские группы. Они покинули райцентр 22 августа и вскоре объединились в один партизанский отряд «За Родину». Всего к партизанским действиям перешли до тридцати истребительных батальонов и формирований народного ополчения, что составило около одной трети (из 92) всех партизанских отрядов, действовавших в Белоруссии во второй половине 1941 года. [110]
Так завершился славный боевой путь истребительных батальонов и отрядов на территории Белоруссии.
Широкое распространение получили в Белоруссии военизированные группы содействия или самообороны, которые создавались на добровольных началах во многих крупных сельских населенных пунктах. В каждую группу входило по 10‑30 человек. Их задачами было: охрана колхозного добра, борьба с вражескими парашютистами и диверсантами, в том числе в районе железных дорог, мостов; своевременное обнаружение агентов врага и сообщение об этом в районные штабы добровольных народных формирований. Каких-либо структурных штатов не было, вооружены они были лишь частично, из-за нехватки оружия, подчинялись райкомам партии и райисполкомам. Организовывались группы содействия или самообороны не сами по себе, стихийно, а по четкому и ясному указанию ЦК Компартии Белоруссии ‑ Директиве от 23 июня 1941 года, то есть уже на второй день войны. В этой Директиве ставилась задача всем обкомам, райкомам партии и исполкомам районных Советов депутатов трудящихся восточных областей республики (в западных областях шли ожесточейнейшие бои частей Красной Армии с частями Вермахта): «…организуйте группы, для уничтожения десантов с воздуха, вооружите их, использовав, кроме оружия, которым вы располагаете, и охотничьи ружья, и все холодное оружие. Возьмите под охрану все важнейшие сооружения, мосты, предприятия, железные дороги, линии связи, телефонные и телеграфные станции и т.д.». ЦК требовал организовать круглосуточное наблюдение за территорией каждого района с тем, чтобы появившийся враг своевременно был обнаружен и уничтожен. И далее: «При появлении десанта врага сообщайте немедленно воинским частям и, ни в коем случае не ожидая их прибытия, приступайте к уничтожению (противника), использовав все виды оружия». Население активно поддержало такое указание. Действовали десятки групп самообороны и содействия в колхозах, при торфопредприятиях, на железнодорожных станциях Жлобинского, Стрешинского, Гомельского, Шкловского, Чаусского, Кричевского, Оршанского и других районов республики. В деревнях Солоное – 25 человек, Четверня – 20, при торфопредприятии – 26, в Октябрьском сельсовете – 10 человек. Несколько групп в этом районе действовало на железной дороге с общей численностью сто человек. До десяти групп содействия было сформировано в Стрешинском районе. Их возглавляли К.Е. Будницкий, Д.А. Мазуренко, И. Москаленко, Халков и другие. К середине июля в 300-х таких групп насчитывалось почти 27 тысяч человек.
В колхозах Гомельского района насчитывалось 29 групп содействия общей численностью 568 добровольцев. Создавались они и в Могилевской области. При поддержке истребительных батальонов, было организовано и частично вооружено в Шкловском, Чаусском, Кричевском районах 185 групп общей численностью 2150 человек. В Витебской области группы содействия стали организовываться при МТС (машинно-тракторная станция). В июне была создана такая группа из рабочих Бычихинской МТС в тридцать человек, во главе с директором Ф.Ф. Германтовым. В Оршанском районе активно боролись с врагом и группы содействия в населенных пунктах Пищалово, Смоляны, Межево, Заболотье. Сотни групп возникли и в Полесской области.[111]
Были созданы группы содействия и в Минской области, хотя и не очень много, из-за быстро накатывающегося вала фашистского нашествия. Так, в деревне Нача Крупского района проживало четыре друга: А. Драница и Л.Драница, И.Кульгавый, В.Маласай, которые готовились к поступлению в военное училище. Сразу после начала войны они обратились в военкомат с просьбой отправить их на фронт. Военком порекомендовал им получить винтовки, вернуться в Начу и организовать там группу содействия. Друзья создали такую группу из молодежи. Они круглосуточно несли дежурство на территории сельского Совета. 26-го июня вражеский самолет бомбил железную дорогу, идущую на Москву. Одна из бомб не взорвалась, упав рядом с рельсами. В.Маласай связался с железнодорожниками, предупредил об опасности ‑ бомба могла взорваться в любую минуту от сотрясения ‑ угрожающая пассажирскому поезду. На дрезине прибыли саперы и вовремя обезвредили бомбу, и поезд с людьми прошел далее.
На следующий день, 27 июня, сотни и тысячи беженцев хлынули на восток. Группа содействия помогала им, чем могла, прежде всего продовольствием и медикаментами. А в ночь на 28-е, недалеко от деревни Компыница, появился диверсант. На его поимку отправились четыре неразлучных друга. Всю ночь они провели в поиске и лишь утром, на опушке, встретили неизвестного человека. Потребовали предъявить документы и объяснить, что он тут делает. Незнакомец удивленно смотрел на них и молчал. Повторили требование. Тогда он замычал, дескать глухонемой, и тут же бросился наутек. Его догнали и обыскали. Нашли пистолет, компас, под подкладкой пиджака ‑ карту Белоруссии.[112]
Абвер напрасно ждал от своего агента сообщений.
Некоторые группы содействия или самообороны уходили вместе с отступающими советскими войсками, вливались в их ряды и воевали в качестве бойцов Красной Армии. Другие ‑ устанавливали связь с партизанскими отрядами или группами, становились их бойцами, разведчиками, связными, укрывали раненых красноармейцев или партизан. Третьи ‑ становились ядром ряда подпольных организаций, собирали оружие и боеприпасы в местах недавних боев. Оказавшиеся на оккупированной территории, добровольцы из групп содействия подвергались смертельной опасности, так как они не прятались от своих односельчан. А предатели находились и доносили на патриотов. Гитлеровцы сразу же казнили их, расстреливали или вешали, как «пособников вооруженных бандитов», активно сопротивлявшихся немецким войскам. Или, в лучшем случае, приравнивали к пленным красноармейцам и бросали на мучительную смерть в концлагеря. Многие погибли, но те, кто выжил, являлись, как правило, активной частью разгоравшейся в тылу врага народной войны.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Формирование народного ополчения в Белоруссии
Наряду с истребительными батальонами на добровольческой основе создавались подразделения и части народного ополчения. Их задачей была помощь Красной Армии, и образовывались они из числа советских граждан, не подлежащих первоочередному призыву по мобилизации. Это была одна из форм массового патриотического движения, его непосредственного участия в войне против фашистских захватчиков. Его инициаторами в СССР 27 июня стали жители Ленинграда (ныне Петербург). О необходимости создания таких формирований сказал И.В. Сталин в своей речи 3 июля 1941 года. Он указал на их необходимость в каждом городе, которому угрожало нашествие врага. Шестого июля ЦК Компартии Белоруссии и Совнарком (правительство) БССР приняли постановление об организации отрядов народного ополчения.
Отряды народного ополчения создавались на добровольной основе при каждом крупном производстве, на транспорте, в учреждениях и организациях, объединялись в масштабе района, города, области. Они строились по принципу армейских подразделений и их возглавляли областные, городские, районные штабы. Данные отряды состояли из рабочих, служащих, интеллигенции, железнодорожников, представителей творческих профессий, студентов и преподавателей вузов и техникумов, мужчин и женщин иных профессий и занятости. В отрядах народного ополчения было значительное количество коммунистов и комсомольцев, но основная масса ополченцев состояла из беспартийных. На командные должности в формированиях народного ополчения назначались, как правило, лица из кадрового состава Красной Армии или призванных из запаса, местами сотрудники НКВД или военизированных организаций.
Задачами отрядов народного ополчения являлись не только помощь частям Красной Армии в их боевой деятельности, но и охрана, фабрик, заводов, колхозов, мостов, средств связи, в борьбе с десантными и диверсионными группами противника, строительства военных укреплений, участие в организации эвакуации населения, промышленного оборудования, сельскохозяйственной продукции в советский тыл из прифронтовых районов. При появлении противника отряды народного ополчения должны были организовать отпор врагу, а в случае оккупации местности и захвата населенных пунктов ‑ переходить к методам партизанской борьбы. Ополченцы являлись также резервом для пополнения ведущих тяжелые бои частей Красной Армии, которые несли значительные потери.
Первые отряды народного ополчения в Белоруссии возникли уже при обороне Минска в количестве от нескольких десятков до сотен человек. Так, на подступах к Минску, у деревни Рогово, помощь сражающимся войскам оказывал в конце июня отряд, состоявший из выпускников Роговской средней школы во главе с директором М.Ф. Соболевым. Вместе с артиллеристами этот отряд трое суток вел упорный бой и уничтожил шесть немецких танков. Особенно отличились ополченцы Нестерчук, Жуковский, Зайчицкий и многие другие. А в районе деревень Уручье, Сухоруки, Колодищи (сегодня это окраинные районы Минска) в течение нескольких дней вместе с бойцами 85-го стрелкового полка отбивал атаки гитлеровцев ополченческий отряд минчан в количестве 400 человек. Ополченцы этого отряда 26-27 июня стойко обороняли участок обороны в районе Красного Урочища, не смотря на сильный артиллерийский огонь и бомбежки. Враг здесь не прошел.
Более организованно и многочисленней народное ополчение создавалось там, где было хотя бы несколько дней для его формирования, обучения и вооружения. Еще 27 июня по постановлению Витебского горкома партии был создан отряд народных ополченцев, который получил название «батальон «Осовиахима», так как его основой стала обучающаяся военно-техническим специальностям молодежь в данной общественной организации, типа нашего ДОСААФ. Этот батальон насчитывал 450 добровольцев. Городское ополчение сформировано 5-6 июля и состояло из четырех батальонов, ‑ по одному батальону в каждом из трех районов города: Октябрьском, Первомайском, Железнодорожном. Четвертый батальон Осовиахима. Батальоны насчитывали в своей совокупности 2 000 человек. Уже 8 июля батальон народного ополчения Первомайского района вступил в бой вместе с воинами 153-й стрелковой дивизии, защищавшей Витебск. Девятого, десятого и одиннадцатого июля все батальоны вели бой на окраине и на улицах города. Совместно с красноармейцами десятого июля ополченцы уничтожили до двухсот гитлеровцев, которые пытались переправиться через Западную Двину. Уличные бои в Витебске были жестокими, и ополченцы несли значительные потери. Беззаветную храбрость и самоотречение проявила первая рота батальона Осовиахима, которая почти полностью погибла в боях за город. На основе народного ополчения Витебска начала формироваться дивизия народного ополчения, но развернувшиеся в городе бои не позволили этого сделать. Одиннадцатого июля ополченцы и красноармейцы покинули Витебск под ударами превосходящих сил Вермахта. Часть ополченцев влилась в ряды советских войск, часть ‑ в ряды партизан и подпольщиков.
Даже выйдя из Витебска ополченцы продолжали самоотверженно биться с ненавистным противником, не жалея своей жизни. Например, 12 июля ополченческий полк сотрудников милиции занял оборону по берегу реки Каспля. Гитлеровцы четыре часа пытались прорваться и окружить наши отходящие войска, но это им не удалось, так как двое добровольцев ‑ П.Ф. Кривенко и Ф.С. Чернышев пробравшись к мосту через реку, которой враг уже завладел, взорвали его. Вместе с переправой был уничтожен танк и несколько мотоциклов. К сожалению оба бойца, совершившие подвиг на Каспле, погибли.[113]
Они ушли из жизни, но остались навечно в благодарной памяти народа.
Яркую страницу в летопись борьбы народного ополчения в Беларуси вписали ополченцы Могилева. Двадцать шестого июня на партийно-комсомольском собрании был создан батальон, в который записались пятьсот комсомольцев и коммунистов. Его командиром был назначен начальник школы НКВД М.И. Калугин, комиссаром ‑ начальник отдела пропаганды и агитации горкома партии С.К. Бондаренко. Это стало началом формирования отрядов народного ополчения. В первый же день создания таких отрядов поступили заявления 2 500 граждан, с просьбой записать их в ополчение. После митинга, который состоялся на фабрике искусственного шелка, поступило 800 заявлений с просьбой принять в отряд ополченцев. Зачислено было 600 человек, остальные не могли стать в строй по физическому состоянию или были крайне необходимы на своих рабочих местах. На протяжении нескольких дней в народное ополчение Могилева вступило восемь тысяч человек. Затем количество ополченцев области к 10 июля возросло более чем до двенадцати тысяч. Из них было сформировано четырнадцать батальонов. Штаб народного ополчения возглавил А.И. Морозов. Из сотрудников НКВД и милиции были сформированы добровольческие батальоны под командованием К.Т. Владимирова и отряд капитана Д.С. Вольского. Областной военный комиссар полковник И.П. Воеводин писал в июле 1941 года: «Кроме того, мы по сути дела располагаем дивизией народного ополчения. Правда, не хватает оружия». В Могилеве сформировали полк из трех батальонов народного ополчения.
Очень скоро начались бои. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, оголтело рвались к городу. Уже в начале июля на дальних подступах к Могилеву упорно сражались передовые подразделения 172-й стрелковой дивизии и народное ополчение. Так, 4 июля батальон под командованием старшего лейтенанта А.П. Волчка, в районе Белынич в жестоком бою уничтожил несколько танков. На следующий день, 5 июля, у деревни Новоселки, в семнадцати километрах от Могилева гитлеровцы высадили авиадесант. Они стремились вызвать панику среди населения, вели частый огонь из автоматов, поджидали свои прорвавшиеся части, чтобы вместе захватить город. Для уничтожения десантников были направлены бойцы из батальона А.П. Волчка и ополченцы фабрики искусственного волокна во главе с Г.П. Кондратьевым. В короткой схватке вражеский десант был уничтожен.
Двенадцатого июля в районе деревни Буйничи произошел многочасовой бой. Совместными усилиями воинов 388-го стрелкового полка, артиллеристов 340-го артполка, батальонов народного ополчения уничтожили тридцать девять танков противника. Тяжелые бои вели рабочие – ополченцы труболитейного завода – 250 человек и артиллеристы в районе мясокомбината. Им пришлось отбивать массированные атаки танков и бронемашин. Когда гитлеровцы ворвались на позиции защитников города, ополченцы взялись за бутылки с горючей смесью. Атака немцев была отбита. Рабочий-ополченец П.Б. Бурский поджег танк, еще двое ‑ И.В. Бальцевич и Е.Л. Ракуть ‑ три бронемашины. Северо-Западнее Могилева на пути врага насмерть встал ополченский батальон милиции, который успешно сдерживал врага с 14 по 18 июля, отбивая многочисленные атаки, нередко доходящие до рукопашной схватки. Бойцами батальона были милиционеры и курсанты Могилевской и Гродненской школ милиции. Они не пропустили противника, но очень дорогой ценой. Из 250 ополченцев батальона в живых осталось только девятнадцать человек. Погиб и командир батальона К.Т. Владимиров. Некоторые, тяжелораненые, были подобраны ночью на 19 июля жителями поселка Таи. Ополченцев поместили у Т.В. Роговцева и его жены Юлии Никифоровны, которые лечили и прятали их от гитлеровцев. Местные жители похоронили погибших на безымянной высоте, где они пали смертью героев за свободу и независимость Родины.
Двадцать шестого июля гитлеровцам все же удалось захватить Могилев, который стойко оборонялся двадцать три дня. В ночь на 26 июля многие из ополченцев вместе с бойцами 172-й стрелковой дивизии вырвались из окруженного города и продолжали воевать на фронтах Великой Отечественной. Сотни других ушли в леса и стали партизанами. Около 400 патриотов, среди которых было значительное количество ополченцев, боролись с врагом в оккупированном Могилеве в рядах городского подполья. Очень дорого дался врагу захват Могилева в живой силе и боевой технике: было убито и ранено около тридцати тысяч солдат и офицеров Вермахта, подбито, сожжено, уничтожено 500 танков, 24 самолета, более 1500 автомашин, около 400 мотоциклов. В этих потерях врага немалую роль сыграло народное ополчение.[114]
Не менее активно действовало ополчение Гомеля и области, которое начало формироваться 9‑12 июля, в каждом из трех районов города создавался батальон. На первое августа в батальоне Центрального района было 472 человека, в Железнодорожном ‑ 360, в Новобелицком ‑ 309. По решению обкома партии они были сведены в Гомельский полк народного ополчения. К 11 августа полк был дополнительно укомплектован и насчитывал более 2 300 человек. Командиром полка стал капитан Ф.Е. Уткин ‑ начальник отдела военного обучения областного Осовиахима. С приближением вражеских дивизий к Гомелю в ополчение вливался личный состав истребительных батальонов. Они составляли значительный процент от общего числа полка ополченцев. Среди ополченцев много было коммунистов непризывного возраста, способных носить оружие. В данном полку они составляли тридцать процентов личного состава. Народные ополченцы являлись резервом советских войск, несколько раз направлялись командованием в ряды действующей армии и поэтому их подразделения постоянной численности не имели. Только в Гомеле, по опубликованным данным, до тринадцатого августа в ряды армии были направлены 850 ополченцев. В целом в области были созданы к 1 августа 18 подразделения ополченцев с общим числом около 7 000 человек. Желающих вступить в ряды народного ополчения было так много, что командование Гомельского полка народного ополчения обратилось с просьбой разрешить создание ополченческой дивизии. Но из-за недостатка оружия она не была создана.
С 13 по 19 августа полк вел боевые действия вместе с войсками Красной Армии. Вместе с ним держал оборону и отдельный добровольческий батальон Гомельского гарнизона. Особо жестокие бои шли за деревни Семеновка и Поколюбичи на северных подступах к городу. Ополченцы вместе с советскими войсками держали оборону на рубежах деревня Семеновка ‑ поселок Гузок ‑ железнодорожная станция Уза ‑ деревня Руденец, перекрывли шоссе Могилев-Гомель, и контролировали железную дорогу Бобруйск-Гомель. Тринадцатого августа ночью ополченцы в составе двух рот, одной пулеметной и взвода разведчиков вместе с подразделением старшего лейтенанта Зельченко нанесли внезапный удар по врагу, который накануне захватил деревню Семеновку, и выбили гитлеровцев с важного пункта. Было убито и ранено несколько десятков фашистов, а деревня Семеновку освободили. Семнадцатого августа немцы при поддержке шести танков безуспешно атаковали деревню Семеновку и деревню Свисток, обороняемых ополченцами, которые упорно отбивали атаки и сожгли гранатами и бутылками с зажигательной смесью два танка. Смело действовали С.С. Парахневич, И.Сусликов, Е.Щербаков, Е.Плющ, Г.Шахнович, Радомысельский, командир взвода Н.Руденко. Трое суток на подступах к Гомелю стойко сражались ополченцы. Рота ополченцев под командованием А.И. Гринько и А.Д. Патыки отбила несколько атак фашистов. В этом бою рота потеряла половину своего личного состава, но оборонительный рубеж не оставила. Здесь противник понес немалые потери: ополченцы уничтожили восемь немецких танков и около пятисот солдат и офицеров.
При помощи десятков самолетов и танков, при поддержке мощного артиллерийского огня гитлеровцы прорвали оборону и утром девятнадцатого августа ворвались в Гомель. Бои продолжались весь день. Отважно сражались: командир взвода И.В. Мигай, рабочие завода имени С.М. Кирова С.М. Станкевич, рабочий вагонного депо Е.Н. Снегирев, железнодорожники И.В. Савченко, В.А. Залужный. У ополченцев были значительные потери, погибли в бою командир полка Уткин, санитарная дружинница молодая учительница Р.Школьникова, комиссар второго батальона М.Н. Кунцевич и многие другие бойцы. Мужественно сражались бойцы третьего батальона Гомельского полка ополчения, оборонявшегося в районе Новобелицы. Когда сюда прорвалось подразделение гитлеровцев, ополченцы сорвали их попытку переправиться через реку Сож. Затем батальон, вступив в неравный бой, сумел задержать продвижение врага к шоссейной и железной дорогам, по которым отходили части 21-й армии.
В дни сражения за Гомель, большую помощь красноармейцам и народным ополченцам оказали колхозники. Семья Алексейчика из колхоза имени В.И. Ленина Г.П. Алексейчик, его жена и дочь заботились о раненых защитниках. А когда гитлеровцы захватили Поколюбичи, эта семья патриотов укрыла у себя двенадцать ополченцев, а потом переправила их в безопасное место. Многие добровольцы, оставшиеся в живых, продолжали воевать в частях Красной Армии, в партизанах, в рядах подпольщиков. В Гомеле есть могила ополченцев, на которой поставили памятник. В честь гомельских ополченцев стоят памятники в поселке Костюковка и в деревне Поколюбичи.[115]
Народ помнит своих защитников.
Были созданы ополченческие подразделения и в Полесской области. Уже к 12 июля здесь было сформировано 121 отряд народного ополчения с общей численностью 4 480 человек. В том числе в Мозыре (центре Полесской области) было создано семь отрядов. Ополченцы вместе с советскими воинами принимали самое активное участие в боях с врагом. В первую очередь они выбивали бронетехнику. Так, с шестого по девятое июля красноармейцы и добровольцы подбили на территории Паричского и Глусского районов области около тридцати танков и бронемашин. Ополченцы вместе с воинами 15-й армии более двух недель отстаивали в боях райцентр Туров. Шеснадцатого июля лесник в деревне Косаричи Глусского района вместе с группой ополченцев скрытно проник в расположение противника и внезапно для врага забросал его технику бутылками с зажигательной смесью. Результат налета: сожгли один танк и убили пять мотоциклистов.
Добровольцы вместе с красноармейцами из отряда подполковника Л.В. Курмышева провели десять боевых операций в занятых врагом четырех районах Полесской и Могилевской областей, вели там разведку, нападали ночью на штабы, уничтожали связь, боевую технику и живую силу. Например, в поселке Груша Бобруйского района разгромили штаб гитлеровской дивизии, захватили много оружия и боеприпасов, тридцать пять автомашин, несколько мотоциклов. Пятнадцатого июля добровольцы узнали, что к мосту через реку Птичь движется танковая колонна гитлеровцев и устроили засаду. Добровольцам помогла в разгар боя прибывшая артиллерийская батарея. Противник не прошел через мост на реке Птичь и потерял пятнадцать танков.
Знаковой была совместная операция отряда добровольцев из пятидесяти человек во главе с С.В. Маханько в Оземле и отряда Красной Армии со ста бойцами воздушно-десантной бригады и бронепоезда номер пятьдесят один. Колхозник А.В.Сенкевич, явившись в расположение отряда Курмышева, сообщил, что в Оземле, кроме крупного вражеского штаба, находятся пехотные подразделения, артиллерия, броневики, транспортные и легковые автомобили. Штаб захватчиков расположился в местной школе и в сельсовете. Гитлеровцы держали в сарае советских воинов, взятых в плен и местных коммунистов ‑ всего девятнадцать человек. Им грозила верная смерть. Артиллерия бронепоезда дважды нанесла по штабу дивизии противника огневой удар. Ворвавшиеся в Оземле десантники и добровольцы спасли большую часть военнопленных и коммунистов, которых гитлеровцы вели расстреливать на кладбище, и нанесли врагу значительные потери ‑ 75 убитых и трое пленных фашистов. Объединенный отряд добыл большие трофеи: 55 броневиков и автомашин, 18 мотоциклов, 45 повозок с лошадьми. Очень важным было то, что отряд захватил приказы и карты, на которых была нанесена фронтовая обстановка, и отправил их в штаб 21-й армии. Отважно сражались в этой операции С.Маханько, С.Прокопчик, В.Козырь, Н.Бабин, М.Филитаров, И.Кулей, В.Лесюков и другие.
К концу июля добровольцы Октябрьского района, взаимодействуя с советскими войсками, уничтожили более трехсот гитлеровских захватчиков, подорвали двадцать мостов, вывели из строя свыше двадцати танков и десятки автомашин гитлеровских войск.
По врагу наносились и контрудары. В том числе и добровольцами во взаимодействии с воинами частей Красной Армии. В первых числах августа тяжелые бои развернулись за райцентр Петриков. Третьего августа 250 красноармейцев и ополченцы, переправились через реку Припять, внезапным ударом опрокинули захватчиков и выбили их из города. Преследуя гитлеровцев, воины и добровольцы уничтожили немало их солдат и офицеров. Отважно сражались ополченцы: Г.Кравец, И.Курбатавский, П.Остапчук и другие. Бой за Петриков, когда враг подтянул свежие силы, продолжался еще десять часов. Добровольцы и красноармейцы вынуждены были отступить, за Припять, так как все боеприпасы были израсходованы.
Добровольческие народные формирования активно действовали также в Житковичском, Домановичском, Лельчицком, Калинковичском, Копаткевичском районах Полесской области. В одном только Комаринском районе насчитывалось четырнадцать отрядов народного ополчения.[116]
Так что недаром фашисты, несмотря на значительный их перевес сил и боевой техники, смогли оккупировать Полесскую область только к концу августа. В этом была и боевая заслуга народного ополчения. Но не только боевыми действиями занимались ополченческие подразделения. Они, наряду с истребительными батальонами охраняли тыл советских войск, вылавливали и задерживали вражеских диверсантов и разведчиков. Например, в Гомеле, бойцы первого ополченческого батальона патрулировали в районе стеклозавода. Были задержаны несколько легковых машин, в которых ехали четыре лейтенанта (люди в форме лейтенантов Красной Армии). Все в новом обмундировании. Наверно это и навело ополченцев на подозрение: войска отступают, измотаны тяжелыми боями, а эти лейтенанты почему-то на машинах разъезжают. Добровольцы задержали «лейтенантов», доставили их в штаб. В машинах были найдены рация и взрывчатка. Потом, командование всем патриотам объявило благодарность за бдительность и смелость при задержании этих фашистских диверсантов. В Могилевской области вместе с потоком женщин-беженок, несущих на руках детей, шел и мужчина в милицейской форме. Ополченцы его задержали, потребовали предъявить документы. Он возмутился, утверждая, что, дескать, имеет ответственное задание от начальника милиции Бобруйска по борьбе с вражескими шпионами. Но, диверсанту не удалось обмануть бдительных добровольцев. Оказалось, что он заслан для террористических актов против командования наших войск.
Принимали ополченцы активное участие и в строительстве оборонительных сооружений вместе с местным населением. Так, в Витебской области, в Оршанском железнодорожном узле в начале июля 1 200 бойцов добровольческого формирования вместе с двадцатью тысячами трудящихся района за несколько суток на левом берегу Днепра вырыли двенадцатикилометровый противотанковый ров от железнодорожного моста до деревни Пашино. В районе впадения реки Адров в Днепр, была сооружена плотина. Уровень воды поднялся на три метра, что препятствовало переправе вражеских войск и техники.
О патриотизме не на словах, а на деле свидетельствует следующий факт. По распоряжению облисполкома на помощь саперам 28 июня, для сооружения оборонительных укреплений для наших войск, должны были прибыть четыре тысячи человек и одна тысяча подвод, а прибыло, совершенно добровольно, свыше четырех с половиной тысяч человек и более тысячи подвод. Через Рогачев (Гомельская область) на восток двигались тысячи беженцев. На мосту через Днепр образовались пробки, а надо было еще переправлять и наши войска. Народные ополченцы и рабочие лесосплавконторы в течение одних суток, работая без перерывов днем и ночью, построили дополнительную переправу. Сооруженные добровольцами полевые укрепления у деревень Заболотье, Збаров, Гадиловичи Рогачевского района вскоре заняли войска 63-го стрелкового корпуса. Они не только сдерживали натиск врага, опираясь на хорошо выстроенные укрепления, но и перейдя в наступление, отбросили войска захватчиков под Бобруйск, нанесли им серьезный урон в живой силе и технике. Строили укрепления и под Могилевом. Командир 388-го стрелкового полка С.Ф. Кутепов (позже он погиб при обороне этого города), во время первой же встречи с добровольцами, прибывшими на строительные работы, так объяснил их необходимость: «Враг сильнее нас танками. Но у нас стойкая пехота, отличные артиллеристы. Только надо зарыться в землю». И ополченцы трудились, не жалея сил, не считаясь со временем. Вместе с воинами они отрыли траншеи длиной двадцать километров. В результате все немецкие атаки на Буйничском поле были успешно отражены, а гитлеровцы потеряли десятки танков и сотни убитых и раненых. И эта помощь, эта поддержка Красной Армии была повсеместной со стороны местного населения и ополченцев. На рубежах занимаемых воинами 21-й армии, готовившейся к обороне в июле – августе на протяжении от реки Птичь до Рогачева (Полесская и Гомельская области) ими было вырыто четыре сотни километров противотанковых рвов и свыше шестисот километров траншей.[117] Наряду со стойкостью наших войск эти укрепления сыграли свою роль в значительном замедлении продвижения войск противника и отвлечения его значительных сил от главного, Смоленского направления.
Большой проблемой для ополченческих формирований стало малое количество оружия для их вооружения, которого явно не хватало при массовом наплыве добровольцев. Основным источником вооружения народного ополчения являлись областные и районные военкоматы, осовиахимовские учебные пункты. В Витебске за десять дней до боев за город бойцы и командиры Осовиахимовского батальона имели на вооружении только 450 винтовок, три станковых и шесть ручных пулеметов и четыреста гранат, которые им передал областной военно-учебный пункт Осовиахима. Со складов Осовиахима батальоны добровольцев получали оружие в Рогачевском, Лельчицком, Стрешинском районах, и многих других районах Гомельской, Полесской, Могилевской областей. По мере возможности ополченцам в вооружении помогали части Красной Армии. Так, в 388-м стрелковом полку 172-й дивизии отремонтировали и передали отрядам народного ополчения Могилева: фабрики искусственного волокна – 180 винтовок, хлебозавода – 50 винтовок, на других предприятиях передано добровольцам 220 винтовок. Кроме этого часть добровольцев получила винтовки, собранные на поле боя. В июле в результате всех принятых мер был полностью вооружен Гомельский полк народного ополчения, в котором имелось 3 000 винтовок и 900 000 патронов, а к 13 августа полк уже имел семнадцать ручных и три станковых пулемета, три автомата и пятнадцать снайперских винтовок для особо метких стрелков. Так что и в Гомеле, и в Могилеве ополченцам было чем обороняться в боях против фашистов. Поделилось своими запасами и Могилевское городское управление НКВД. В Могилеве подразделения народного ополчения воспользовались пулеметами со склада его областного управления. Но были и трудности. Многим ополченцам Гомельского полка досталось устаревшее оружие, которое хранилось на складах областного военкомата еще со времен гражданской войны.
Большой некомплект оружия для ополченцев был в Полесской области. К середине июля здесь в народном ополчении состояло 4 480 человек, однако они располагали только 1 498 винтовками и всего 300 гранатами, то есть на троих ополченцев была одна винтовка и на пятнадцать человек одна граната. Все это сильно затрудняло деятельность подразделений народного ополчения. Однако принимались все меры для исправления сложившегося положения. Так добровольцы Октябрьского района Полесской области первый день своего существования имели на вооружении всего четыре боевых винтовки, двенадцать охотничьих ружей и мелкокалиберных винтовок, а к 15 июля отечественное или трофейное – захваченное у гитлеровцев, оружие было у каждого бойца, а в батальоне было двадцать ручных пулеметов. В Паричском батальоне той же области в начале боевого пути имелось девять боевых винтовок и несколько охотничьих ружей, но уже в середине июля его бойцы были вооружены отбитыми у врага пулеметами и автоматами. Кроме того, батальон имел противотанковую пушку и трофейный броневик.
Исходя из имеющегося в наличии времени, проводилось обучение добровольцев военному делу. По опубликованным данным до шестидесяти процентов ополченцев не имели до войны военной подготовки, несмотря на большие усилия и широкий масштаб деятельности многочисленных организаций Осовиахима до 22 июня 1941 года. Командиры из военных учили ополченцев и истребителей меткой стрельбе из винтовок и пулемета, штыковому бою, метанию гранат и бутылок с зажигательной смесью по вражеской бронетехнике, самоокапыванию, ведению группового огня по низколетящим вражеским самолетам. Особое внимание уделялось тактике боя в поле, городе, лесу.
Двенадцатого июля Гомельский областной штаб народного ополчения в своем приказе требовал: «Во всех формированиях области немедленно приступить к планомерному военному обучению народного ополчения». На первых порах в Гомельском полку военная подготовка проходила после работы по два-три часа в день. С 20 июля добровольцы были переведены на казарменное положение из-за сложной обстановки на фронте. Штаб полка организовал более длительные плановые занятия. Там, где обстановка не позволяла основательно заниматься боевой подготовкой, ополченцы доучивались военному делу на передовой. Сотни Могилевских добровольцев в составе сводного полка успешно держали оборону на участке Николаевка-Городок-Полыковичи. Когда не было достаточного времени, то ополченцы овладевали минимумом военных знаний, необходимых для выполнения конкретного задания. Например, разведчики взвода которым командовал А.П. Ткачев из Жлобинского (Гомельская область) батальона народного ополчения в течение длительного времени по заданию штаба 63-го стрелкового корпуса вели разведку, как в тылу противника, так и в районе передовой. Перед выходом на задание они учились скрытно проникать в расположение врага, по различным признакам определять его численность. Это помогало в выполнении заданий, в их умелых действиях в боевых условиях. В Полесской области ополченцы, как это было общепринято в народном ополчении, военную подготовку проводили три-четыре раза в неделю без отрыва от производства до непосредственного приближения фронта.
Судя по тем потерям, которые воины Красной Армии и ополченцы нанесли врагу при обороне Могилева, Гомеля, Полесья у них в основном хватило оружия, и учеба военному делу тоже прошла успешно.[118]
Нередки были случаи, когда объединившиеся добровольцы из истребительных и ополченческих формирований переходили к партизанским методам борьбы в тылу противника. Так, первый Речицкий партизанский отряд (Гомельская область) возник в августе 1941 года на базе истребительного формирования и подразделения народного ополчения. В его рядах были: М.Ф. Турчинский, который стал командиром диверсионной группы, а позже, в 1942 году, командиром и комиссаром партизанского отряда имени К.Е. Ворошилова, соединившегося с наступающей Красной Армией в ноябре 1943 года в количестве 408 человек; А.Е. Михайлов ‑ комиссар партизанского отряда имени К.Е. Ворошилова в апреле ‑ ноябре 1942 года. И Турчинский, и Михайлов ополченцы лета 1941 года, являлись членами Речицкого подпольного райкома партии в ноябре 1942 -июле 1943 годах. В Лельчицком районе Полесской области командир батальона народного ополчения П.Т. Лишафаев возглавил первый местный партизанский отряд, а командир Новобелицких ополченцев (город Гомель) Г.И. Климович командовал взводом в партизанском отряде «Большевик».[119] Народные ополченцы Белоруссии достойно себя показали в дальнейшем и в партизанской борьбе, и в подполье, и на фронтах Великой Отечественной. Только два примера. Рабочий завода имени С.М. Кирова в Витебске Г. Гришанов сражался в рядах народного ополчения ‑ участвовал в обороне Витебска, ушел в партизаны. В партизанском отряде под командованием М.Ф. Бирюлина он стал пулеметчиком и участвовал во многих боях. Однажды после боя он прикрывал отход группы партизан. Когда закончились патроны, отбивался гранатами. Последней подорвал себя и группу фашистов. Отважный партизан уничтожил в неравной схватке более 70 гитлеровцев. Гомельский ополченец Н.К. Козунов в составе 122-й стрелковой бригады 48-й армии участвовал в битве под Москвой, в сражении на Курской дуге, освобождал Гомель в ноябре 1943 года, прошел фронтовыми дорогами до Берлина. Командир взвода разведки ополченец Д.Подлобников в оборонительных боях за Гомель был ранен. Поправившись, ушел в Красную Армию, сражался на Калининском фронте, в боях за Ростов. Ополченец В.Козловский в период обороны Витебска, был ранен. Оставшись в родном городе, он активно участвовал в подпольной работе: собрал радиоприемник, с помощью друзей, которые ночью слушали Москву, размножал сводки Совинформбюро и утром в городе появлялись листовки. Братья Р.Л. и С.Л. Лин одними из первых вступили в Лельчицкое добровольческое формирование, участвовали во всех его боевых операциях, стали активными организаторами борьбы с фашистскими оккупантами на Полесье. Р.Л. Лин объединил в партизанский отряд имени М.И.Кутузова в ноябре 1942 несколько подпольных групп. Он был первым партизанским отрядом в Лельчицком районе. На день соединения с Красной Армией в январе 1944 года Лельчицкая бригада насчитывала шесть партизанских отрядов, а Р.Л. Лин являлся ее комиссаром. Его брат С.Л. Лин был в отряде имени М.И. Кутузова со дня его образования и а сентябре 1943 года стал его комиссаром.[120]
Народное ополчение и бойцы истребительных батальонов, внесли весомый вклад в защиту Беларуси от нацистской агрессии гитлеровской Германии, упорно и смело сражались вместе с воинами Красной Армии. Они действовали относительно недолго, но дела их остались навечно в памяти народа.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ЭВАКУАЦИЯ
Перед руководством Белоруссии стояла задача быстрой, и насколько позволяла обстановка на фронте, достаточно полной эвакуации населения, оборудования заводов и фабрик, материальной части колхозов и совхозов, проведения там, где это было возможно, мобилизации, снабжения частей советских войск транспортом и продовольствием, оказания помощи раненым воинам Красной Армии. И все это надо было проводить в условиях достаточно быстрого продвижения вражеских войск, под ударами фашистской авиации по колоннам беженцев, по железнодорожным узлам и дорогам. Нередко, это происходило под артиллерийским огнем, под угрозой прорыва ударных частей Вермахта и выброски десанта. Приходилось учитывать перемещение десятков и сотен тысяч жителей, направляемых на сооружения оборонительных рубежей и перевод промышленности на выпуск военной продукции.
В результате натиска противника, окружения и разгрома многих дивизий Красной Армии, гитлеровцы смогли быстро захватить западные и центральные районы республики, что еще более затруднило или делало вообще невозможной эвакуацию. Поэтому различные мероприятия по эвакуации смогли провести только в восточных регионах Белоруссии ‑ Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской областях и частично в Минской.
Это, в связи с крайне угрожаемым развитием военных событий, уже на второй день войны, 23 июня, заставило Бюро ЦК Компартии Белоруссии придти к тяжелому решению о необходимости начать частичную эвакуацию. При этом имелась в виду эвакуация организованная, поскольку стихийная, в основном людей из западных районов Белоруссии фактически осуществлялась уже с первых часов войны ‑ где на автомашинах, где на повозках, где пешком, уже с первых часов войны. Власти действовали в спешке, исходя из собственного понимания и оценки ситуации, самостоятельно, без согласования с Москвой. В первую очередь, спасали детей. Получив «добро» Сталина ЦК Компартии принял постановление об эвакуации в двухдневный срок детей из детских домов, садов, лагерей, из городов.
Это постановление было выполнено частично, из-за накатывающегося вала военных действий. Самыми безопасными местами для минских детей считались ближайшие к столице районы ‑ Червенский, Пуховичский и другие. Здесь власти были в плену довоенных представлений о войне. Однако намеченный вывоз детей из Минска сорвался из-за начавшихся 24 июня массированных бомбардировок города. Тем не менее, для эвакуации детей делалось все возможное. Так, в пионерском лагере «Талька» отдыхало 350 учеников младших классов школ Минска. В город возвращаться было уже нельзя – он горел, подвергался бомбежкам и обстрелам. Детей вывезли из опасной зоны и укрыли на железнодорожной станции Талька в лесу. На станции никого, кроме начальника, не оказалось. Но он делал все возможное. Во время разговора зазвонил телефон и начальнику станции сказали: «Через вашу станцию на восток пройдет эшелон с тяжелоранеными бойцами. Дайте поезду «зеленую улицу». Это был последний эшелон и последняя надежда на спасение детей. Начальник станции закрыл семафор и эшелон остановился. В нем насчитывалось три вагона с тяжелоранеными и три платформы с подобранными уходящими из Минска людьми. Десятки рук с платформ и потянулись к детям. В считанные минуты всех 350 ребят подняли в эшелон. Всего в июле-августе удалось эвакуировать в глубинные районы страны 191 детское учреждение, в которых находилось 16 345 детей. Как правило, это были воспитанники детских домов, или дети, ставшие сиротами из-за военных действий. Домашние дети эвакуировались вместе с родственниками.[121]
Для решения проблем с беженцами, непрерывно прибывавших из западных районов республики, ЦК Компартии 23 июня организовал республиканскую комиссию во главе с В.Б. Гайсиным. Одновременно было принято решение о создании специальных транспортных пунктов в Минске и других железнодорожных узлах, считавшихся в тот день относительно безопасными, в силу определенной удаленности от границы (Орша, Бобруйск, Жлобин и другие). Местным советским органам было предписано устраивать беженцев на работу немедленно и «приостановить дальнейшее движение эвакуированных».
Ведь шел только второй день войны, и никто точно не мог сказать, чем закончится приграничное сражение. Очень скоро это, ошибочное, как показали события на фронте, решение, привело к трагедиям эвакуирующихся из западных районов Беларуси, в силу ожесточенных боев за данные города и последующие три года оккупации. Но надо отметить, что некоторая часть этих людей эвакуировалась в дальнейшем на общих основаниях уже из восточных районов БССР.
Планомерная эвакуация из Минска его жителей и промышленных предприятий, даже важнейших (строящегося завода № 453 (авиационного) и стройуправления № 1 военного значения) не удалась.
Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пономаренко 17 августа прямо написал в докладной записке Сталину: «Минские предприятия не были эвакуированы, вследствие перехвата коммуникаций врагом, разрушений и общего пожара в городе в результате беспрерывных бомбардировок». Фашисты уничтожали Минск фугасными и зажигательными бомбами, поэтому к разрушениям прибавились пожары ‑ тушить их было нечем, так как водопровод был выведен из строя уже во время первой бомбежки. Была растерянность у населения города, но не было всеобщей паники и неразберихи. Десятки молодежных отрядов столицы спасали людей в пылающих кварталах города. Санитарные дружины противовоздушной обороны помогали раненым. Городские и добровольные пожарные отряды, группы самозащиты из последних сил стремились выполнить свой долг, вытаскивали из-под завалов раненых, пока была вода в уцелевших колодцах, боролись с огнем. Более тысячи юношей и девушек в Минске ремонтировали взлетную площадку. Вот когда и где сказались, и советский характер, и комсомольское воспитание, да и навыки, полученные в Осовиахиме и оборонных кружках. Центральные органы руководства республики получили приказ командующего Западным фронтом Павлова об эвакуации, из пылающего и разбомбленного города, в 20 часов 24 июня. Ночью позвонил Сталин. Он разрешил переезд руководящих органов БССР в Могилев.
Шестнадцатого июля, в связи с началом боев за Могилев, руководство республики переместилось в Гомель, который покинуло в середине августа 1941 года. Выезд из Минска состоялся между двумя часами ночи и пяти часов утра 25 июня. Так что, никакого панического бегства и оставления Минска на произвол судьбы Центральным Комитетом партии и Правительством Белоруссии не было. 20 июля, в докладной записке Правительству СССР, председатель Правительства БССР И.С. Былинский указывает: «В связи с внезапностью нападения, создать организованную эвакуацию из западных и Минской областей не удалось, и население, в большинстве случаев, пешеходом уходило из мест, занимаемых противником». Однако он не уточняет, что такой «пешеход» часто заканчивался вынужденным возвращением на родные развалины, как это произошло с большинством жителей Минска, которым дорогу преградили немецкие танки.
Наряду с «пешеходом», насколько могли, использовали для эвакуации населения из столицы и железнодорожный транспорт. Организовать массовую эвакуацию населения города, предприятий и учреждений уже практически не было возможности. Подъездные пути Минского железнодорожного узла оказались разрушенными, часть подвижного состава уничтожена в результате массированных бомбежек гитлеровской авиацией. Но и в этой, крайне трудной, ситуации искали и находили, какой-нибудь возможный выход. В период с 24 по 26 июня, основную нагрузку несли пригородные железнодорожные станции Колодищи и Ратомка, до которых люди как-то могли добраться. Точных данных о численности отправленных поездов нет, но, по ряду воспоминаний и некоторым публикациям, получается, что с 24 по 26 июня из Минска было отправлено пятьдесят эшелонов, в том числе только 24 июня ‑ десять из них. Что касается автотранспорта, его было немного, и он накануне почти весь был передан Красной Армии по мобилизационному плану.[122]
Одним из главных в июне-августе 1941 года стоял вопрос, там, где для этого были необходимые условия, планомерной и достаточно полной мобилизации военнообязанных в Красную Армию. В западных областях республики, где с первого дня войны шли напряженные бои частей Красной Армии с войсками Вермахта, условий для проведения мобилизации военнообязанных не было. Мобилизацию в Минске и некоторых районах Минской области из-за боевых действий смогли провести частично. Планомерную мобилизацию для призыва в ряды красноармейцев и командно-политического состава сумели провести лишь в четырех областях ‑ Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской.
В отдельных западных районах, где были размещены войска, успели призвать только некоторые категории командно-политического и рядового состава, приписанных к 10-й и 11-й армиям. Несколько сот, призванных со сборов, приписного состава, приняли участие в обороне Брестской крепости.
Призыв военнообязанных в не оккупированных врагом районах республики осуществлялся на основе Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О призыве военнообязанных 1905-1918 годов рождения». В августе была объявлена мобилизация лиц 1890-1904 годов и 1923 года рождения. Патриотические настроения у населения были очень сильны. Уже 22 июня в Минске было подано 542 заявления граждан об отправке их на фронт, в качестве добровольцев. Всего за несколько дней горкомы и райкомы комсомола Минской области направили в действующую армию более двенадцати тысяч человек. В сообщении Минского областного военного комиссариата от 24 июня говорилось, что в районные военные комиссариаты идет большой поток заявлений добровольцев, требующих немедленно отправить их на фронт. Что касается плановой мобилизации, то она продолжалась только один день ‑ 23 июня, после чего, в связи с очень сильными бомбардировками и пожарами, военкоматы выехали из Минска и продолжили работу в его окрестностях. По этой причине многие жители столицы просто не успели получить официальные повестки о призыве. Военкоматы Минска начали призывать резервистов и за пределами города.
Около десяти тысяч мобилизованных минчан влились в 1-й Минский запасной полк, который начал формироваться на станции Колодищи, и в другие части. Вследствие очень быстрого развития событий полк не успели обмундировать и вооружить, как отдельную военную единицу и поэтому его личный состав был направлен на пополнение подразделений 2-го и 44-го стрелковых корпусов, в составе которых он участвовал в обороне Минска. Стрелковые 100-я и 160-я дивизии, размещенные в окрестностях города, получили необходимый контингент командиров, политработников, рядовых запаса. Более двенадцати тысяч мобилизованных были направлены по Могилевскому шоссе на восток, где начал создаваться новый оборонительный рубеж на реке Березине и реке Днепр. Всего за мобилизационный период, с 23 по 27 июня, в воинские части из города и окрестностей военкоматы направили до двадцати семи тысяч человек рядового и командного состава, свыше семисот автомашин и тракторов, около двадцати тысяч обозных лошадей.
Жители столицы показывали всем пример патриотизма и высокой организованности проведения мобилизации в крайне неблагоприятных условиях стремительного приближения военных действий. Они не были одиноки. В ряды Красной Армии стремились многие, особенно молодежь. Уже 23 июня, на второй день войны, в военкоматы Могилева подали заявления две тысячи юношей и девушек, которые настаивали на немедленной отправке их на фронт. Всего из Могилева в Красную Армию ушло двадцать пять тысяч человек. Патриотические настроения были характерны не только жителям крупных городов, но и колхозникам, людям из малых населенных пунктов. Так, в Кормянском районе Гомельской области в военкомат лишь в течение одного дня с подобной просьбой обратились четыреста восемнадцать человек. В первые же дни войны Гомельщина направила в действующую армию около шестидесяти тысяч добровольцев. К середине июля в воинские части влилось до двадцати двух тысяч, а к августу – свыше пятисот тысяч человек, несмотря на тяжелые бои с многочисленными потерями и отступление соединений Красной Армии.[123]
Но не все было так, как иногда хотят представить некоторые «историки». Были и ошибки, и недостатки в деле мобилизации и использования мобилизованных. Например, секретарь ЦК КП(б)Б Г.Б. Эйдинов докладывал 23 июля Пономаренко, что в Пропойске, Кричеве, Хотимске скопилось по пять-шесть тысяч мобилизованных, которые прошли по 200–300 километров, из западных областей. Люди были до предела измотаны и голодны, передвигались зачастую без командного состава, не обмундированы и без оружия, являясь живой мишенью для вражеских десантов. Местное руководство в сложившейся обстановке оказалось зачастую не готовым самостоятельно решать эти сложные проблемы. Не всегда на высоте было взаимодействие командования воинских частей, партийного и комсомольского руководства. Было и другое, когда необученных, плохо вооруженных новобранцев прямо с призывных пунктов, направляли на передовые позиции, что приводило к массовым, неоправданным потерям.[124]
Но, несмотря на имевшиеся ошибки и недочеты, касающиеся мобилизованных граждан и добровольцев, абсолютное большинство патриотов проявляли мужество, выдержку, терпение, быстро учились в условиях боевых действий. Здесь отличился комсомол Белоруссии, насчитывавший 246 620 членов. 28 июня постановлением ЦК ЛКСМБ (Ленинский Коммунистический Союз Молодежи), в связи с военной обстановкой, комсомол республики объявлялся мобилизованным на Отечественную войну против немецко-фашистских захватчиков. Комсомольские организации обязывались активно участвовать в проведении всеобщей мобилизации, создавать из комсомольцев и молодежи, не подлежащих призыву, отряды по борьбе с парашютными десантами и диверсионными группами врага, готовить из девушек санитарные дружины. В случае захвата территории противником переходить к подпольным и партизанским методам борьбы. Вслед за этим решением, 30 июня ЦК ЛКСМБ принял обращение к комсомольцам и молодежи республики, с призывом активно защищать Родину, свободу и честь советского народа, его жизнь и труд. В ответ на это обращение тысячи комсомольцев и молодежи, не дожидаясь повесток из военкоматов, в том числе и те, кто не подлежал призыву, приходили в военкоматы, в партийные и комсомольские комитеты с просьбой направить их на фронт. В течение июля-августа в Красную Армию и Военно-Морской флот добровольно или по мобилизации ушло сто тридцать тысяч комсомольцев республики. В действующую армию было направлено около половины кадровых комсомольских работников БССР. Комсомольцы и молодежь составляли почти половину численности истребительных батальонов и народного ополчения, были главной силой на строительстве оборонительных сооружений. Становились комсомольцы и бойцами спецподразделений Красной Армии. В Могилеве была подобрана и передана в распоряжение штаба Западного фронта группа разведчиков, в Витебске прошли отбор и были посланы на выполнение заданий около трехсот комсомольцев. Из Гомельской и Полесской областей направлены в подразделения парашютистов четыреста добровольцев, которые проводили диверсии и разведку в тылу гитлеровских войск.[125]
Комсомольцы доблестно показали себя и на фронте, и в партизанских отрядах, и подпольных группах. Недаром фашисты приравняли комсомольцев к коммунистам и, если они попадали в руки немцев, расстреливали, вешали или направляли на верную смерть в концлагеря.
Огромную роль в организации и проведении отпора наступающим частям Вермахта играла Компартия Белоруссии, ее Центральный Комитет, обкомы, горкомы, райкомы партии. Они поднимали людей на борьбу и на фронтах, и на оккупированной территории, руководили, вместе с советскими органами, проведением мобилизации и эвакуации. Коммунисты лично подавали пример трудящимся республики. В рядах партии до войны насчитывалось семьдесят пять тысяч коммунистов. В течение июня-августа 1941 года добровольно или по призыву военкоматов в подразделения Красной Армии и Военно-Морского флота ушло двадцать шесть тысяч пятьсот коммунистов, что составляло тридцать четыре процента всего состава парторганизации Беларуси. Коммунисты играли ведущую роль в истребительных батальонах и частях народного ополчения. В них было, примерно, тридцать процентов членов партии и кандидатов в члены партии. Командный состав этих формирований на девяносто процентов состоял из коммунистов. Летом 1941 года именно подпольные партийные органы во многих районах возглавили нарождающееся партизанское движение и борьбу подпольщиков. В августе 1941 года в тылу гитлеровских оккупантов действовали три подпольных обкома партии, один горком, девятнадцать райкомов и несколько тысяч коммунистов.
Фашисты настолько боялись роли коммунистов в организации сопротивления, что, когда обнаруживали партийный билет у военнопленного, партизана или подпольщика, отправляли на верную смерть. Коммуниста фашисты обрекали на дикие муки, расстреливали или вешали. Даже в концлагерях, при выявлении коммунистов среди военнопленных или арестованных гражданских лиц, их тут же казнили. Гитлеровцы отлично понимали значение их организующей, вдохновляющей и руководящей роли в сопротивлении местного населения и военнопленных в лагерях.
Не отсиживались в тылу и руководящие работники ЦК Компартии Белоруссии. П.К. Пономаренко, первый секретарь ЦК КП(б)Б, являлся членом Военного Совета Западного фронта (руководителем политорганов фронта), секретари ЦК П.З. Калинин, В.Н. Малин, И.П. Ганенко, В.Я. Власов, В.Г. Ванеев (погиб в октябре 1941 года) ‑ членами Военных Советов 16-й, 9-й, 13-й, 20-й, 21-й армий. На командную и политическую работу в армию были направлены тридцать членов и семнадцать кандидатов в члены ЦК КП(б)Б, восемнадцать членов Центральной ревизионной комиссии. Во второй половине июля ЦК Компартии направил в распоряжение Политуправления Центрального фронта девять групп по семь-десять человек в каждой, которые возглавили секретари обкомов партии. Они знали обстановку и людей. Группы встречали части, которые прибывали на фронт, организовывали своевременную разгрузку эшелонов, отправку на фронт боеприпасов, налаживали санитарно-медицинское обслуживание и питание военнослужащих, вели политическую работу. Несли работники партийного аппарата и потери в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В первые месяцы войны погибли: первый секретарь Барановичского обкома А.И. Савелов, второй секретарь Вилейского обкома Б.Х. Перечинский, первый секретарь Вилейского обкома комсомола В.А. Голярко, заместитель заведующего сельхозотдела ЦК КП(б)Б Н.А. Хондого, секретари Браславского, Несвижского, Могилевского райкомов партии П.Г. Печенко, С.К. Мекшило, Ф.А. Журов и многие другие. Компартия Белоруссии была воюющей партией.[126]
Важным направлением в развертывании мобилизации стало снабжение частей Красной Армии автотранспортной техникой, конским поголовьем для перевозки орудий, боеприпасов, личного состава, раненых, особенно с учетом захвата врагом шестидесяти фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных складов с запасами горючего, боеприпасов, фуража, продовольствия. Без всемерной помощи со стороны трудящихся Белоруссии, органов власти, как местных, так и центральных, части и соединения Красной Армии не смогли бы воевать.
Подразделениям Красной Армии в восточных областях республики (западные уже оккупированы в первые же дни войны) были переданы две с половиной тысячи автомобилей, более тридцати пяти тысяч лошадей, двадцать три тысячи повозок. СНК (правительство) БССР, по неполным данным, выделило фронту в июне-августе из государственных, хозяйственных, кооперативных, колхозных и совхозных ресурсов восемнадцать тысяч тонн мяса, тридцать шесть тысяч голов скота, десять тысяч триста пятьдесят тонн зерна, десять тысяч тонн сена. К сожалению, и спустя семьдесят семь лет после описываемых событий, нет ни полных данных по переданной войскам продукции, ни обобщающих данных по областям в опубликованной литературе. На протяжении первой недели войны были развернуты эвакогоспитали для раненых воинов на двенадцать тысяч восемьсот мест, в больницах организовывались медицинские отряды. Комсомольцы и молодежь приняли самое непосредственное участие в их создании и оборудовании, ухаживали за ранеными красноармейцами и командирами.[127]
Бои были жестокими, и раненых было много. Далеко не всех могли отправить на лечение в госпитали вглубь СССР, и поэтому такая медицинская мобилизация была необходима.
23 июня рабочие Минских предприятий переводятся на казарменное положение. Эта мера позволила избежать больших потерь среди рабочих, так как фашистская авиация бомбила, в основном, жилые кварталы и Минский железнодорожный узел. Через несколько дней, с началом эвакуации, часть рабочих смогла уехать в эвакуацию с пригородных станций, вместе с работниками некоторых предприятий, учреждений и организаций, администрация которых по мере возможности оповещала своих сотрудников. Среди эвакуированных минчан, по далеко не полным данным 1942 года, преобладали, работавшие женщины и домохозяйки, а также выехавшие с ними дети дошкольного и школьного возраста.
При эвакуации из Минска были и отрицательные моменты. Бригадный комиссар Григоренко писал о них в донесении 3 июля начальнику Главного Политического Управления Красной Армии: «Эвакуация семей начсостава тоже не была организована. Этот вопрос не был разработан в мобилизационных планах. Как и в гражданских организациях, эвакуация была пущена на самотек. Многие руководящие военные работники в индивидуальном порядке эвакуировали свои семьи, оставив на произвол семьи подчиненных командиров. В результате многие семьи начальства не только в приграничных районах западных областей БССР, но даже и в Минске, в том числе и работников штаба округа, погибли или пропали без вести…»[128]
Негативный опыт эвакуации из Минска был учтен и, в других крупных городах не повторился. Порядок и последовательность эвакуации населения, тех людей, которые имели возможность и желание, поддерживали и охраняли истребительные батальоны и отряды народного ополчения.
В результате быстрого продвижения немецких войск, сложности и неясности обстановки, перехвата врагом в некоторых местах железных дорог, эвакуирующееся население в ряде случаев уходило на восток самостоятельно и пешим порядком. По железным дорогам вывозились на восток СССР, как правило, заводы, промышленное оборудование, запасы материалов полуфабрикатов, рабочие и их семьи. Для налаживания эвакуации населения партийные и советские органы создавали эвакопункты, которые обеспечивали питанием, обувью, одеждой, медицинской помощью тех, кому это требовалось. Эвакопункты действовали в Витебске, Могилеве, Гомеле, Орше, Осиповичах, Полоцке, Калинковичах и других городах Беларуси. Всего насчитывалось двадцать четыре эвакопункта. На их потребности СНК БССР выделил три миллиона рублей. Всего летом 1941 года в восточные районы ушли и выехали из Белоруссии полтора миллиона человек, при населении, приблизительно, десять миллионов. В этом была вера людей в неизбежность нашей общей Победы, патриотизм белорусского народа, готовность к трудностям и лишениям лишь бы не быть под власть фашистов, избежать массовой гибели, поголовного грабежа, рабского принудительного труда на «арийских господ».
Эвакуация в большинстве случаев была организованной, а не стихийной. 24 июня решением Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК (правительства) СССР создан Совет по эвакуации. Его председателем стал член Политбюро Н.М. Шверник, его заместителями ‑ заместители председателя правительства А.П. Косыгин и М.Г. Первухин (председателем правительства был И.В.Сталин), что ярко показывает то значение, которое придавалось этому Совету и проблеме эвакуации. На следующий день – 25 июня ЦК КП (б)Б и СНК БССР создали Центральную эвакуационную комиссию во главе с председателем правительства БССР И.С. Былинским. В эту комиссию входили заместители Былинского И.А. Захаров, И.А. Крупеня и другие. В июле бюро ЦК КП(б)Б приняло дополнительные меры по усилению темпов эвакуации. Было принято решение проводить комплексную эвакуацию крупных промышленных предприятий и транспорта, ресурсов сельского хозяйства. [129]
Народное хозяйство Белоруссии быстрыми темпами переводится на военный лад. Уже на второй день войны вводится в действие мобилизационный план производства боеприпасов. Ударно работал коллектив «Гомсельмаша». С первых же дней боевых действий на границе он увеличил выпуск продукции – выпускал детали для ремонта военной техники и производил ее ремонт. Гомельские заводы «Двигатель революции» и сельскохозяйственного машиностроения наладили ремонт боевой техники, выпускали мины и минометы; завод имени С.М. Кирова, Гомельский и Новобелицкий лесокомбинаты освоили производство противотанковых мин, спичечная фабрика «Везувий» – изготовление гранат. Многие предприятия выпускали бутылки с горючей смесью, специальные запалы к ним. Железнодорожники Гомеля создали тридцать передвижных мастерских для ремонта военных автомашин в полевых условиях. В Гомеле, Климовичах (Могилевская область) и Мозыре (Полесская область), и в ряде других городов были оборудованы передвижные мастерские по ремонту танков и тракторов. Многие промышленные артели также перешли на производство военной продукции. Промышленные артели «Красный металлист» в Бобруйске, «Молот» в Мозыре, «Металлист» и «Молот» в Витебске освоили производство ручных гранат. Продукцию, необходимую фронту, выпускали также механическая мастерская в Могилеве, Бобруйский деревообрабатывающий комбинат, Шкловский льнозавод, обувные и швейные производства.
Наряду с ними, для потребностей советских войск, работали предприятия легкой и пищевой промышленности, производя обувь, белье, обмундирование, хлеб, сухари, мясные консервы. Не считаясь со временем, люди работали по десять – двенадцать часов в сутки, практически, на всех предприятиях. Многие рабочие перевыполняли нормы выработки. Так, токарь Могилевского военно-ремонтного пункта Вагун и кузнец механического цеха Сидоров перевыполняли сменные задания в несколько раз. Фрезеровщик Витебского завода имени С.М. Кирова Бирюков 29 июня втрое превысил норму, а токарь этого же завода Песотский выполнил задание на двести восемьдесят процентов. Передовые рабочие переходили, там, где для этого были условия, на обслуживание нескольких станков. Например, рабочий Витебского игольного завода Наумов, работал на пяти станках, заменив трех рабочих, которые ушли на фронт. На восьми машинах стала работать текстильщица Витебской трикотажной фабрики Игнатова.[130]
Часто промышленные предприятия еще работали, когда бои шли уже на окраинах их городов и фашистские войска врывались, пройдя по трупам многих защитников, на улицы городов. К сожалению, прорывы гитлеровских дивизий были нередки и внезапны, частям Красной Армии приходилось отступать, а то и вырываться из окружения. Вслед за фронтовыми частями Вермахта шли на территории Беларуси летом 1941 года, четыре охранные дивизии и многочисленные подразделения карательных служб Третьего рейха ‑ СД (служба безопасности нацистской партии), Абвера 2 (контрразведки Абвера), фельджандармерии (полевой полиции), эйнзацгрупп и зондеркоманд СС, которые сразу начинали массовые аресты и расстрелы советских активистов, в том числе передовых рабочих, техников, инженеров, евреев и цыган, а не только коммунистов и комсомольцев. Так что судьба ударников труда и тех, кто упорно помогал военному производству в июле – августе, вполне могла быть трагической.
Патриотическим подвигом белорусского народа летом 1941 года была эвакуация в короткие сроки населения, промышленного оборудования, культурных ценностей и научно ‑ образовательных организаций, сырья, имущества МТС, колхозов и совхозов. Демонтаж и эвакуация оборудования основных промышленных предприятий, скота и зерна с Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской областей, несмотря на ожесточенные бои, на территории этих областей, бомбежки и артобстрелы, осуществлялись круглосуточно.
Всего в восточные районы СССР в июле-августе 1941 года из БССР были вывезены: сто двадцать четыре крупных промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения, четырнадцать промышленных артелей, три тысячи двести металлообрабатывающих танков. Так же было вывезено в новые места дислокации около девяти тысяч текстильных, швейных, кожеобрабатывающих и трикотажных машин, более восьми с половиной тысяч моторов, восемнадцать турбогенераторов (общей мощностью тридцать две тысячи киловатт), шестьдесят девять трансформаторов (общей мощностью шестьдесят восемь тысяч киловатт), восемьсот сорок пять тонн цветных металлов, сорок четыре километра силового кабеля, около трех тысяч четырехсот вагонов готовой продукции и сырья.
Многие предприятия старались эвакуироваться с основными кадрами рабочих и инженерно-технических работников. Это давало возможность в короткие сроки вводить предприятия в строй действующих на новых местах и давать военную продукцию, которая была крайне необходима фронту. В город Курган Челябинской области (новое место размещения «Гомсельмаша»), вместе с предприятием прибыло двести девяносто кадровых рабочих, сто тридцать пять инженерно-технических работников и, примерно, сорок служащих (кроме призванных по мобилизации в Красную Армию или ушедших в истребительные батальоны и отряды народного ополчения еще в Белоруссии).
Как правило, все они прибывали не одни, а вместе с семьями, которые активно включались в производство, оборонные работы или помощь сельскому хозяйству. Вместе с оборудованием Гомельского паровозовагоноремонтного завода на Уфимский завод в организованном порядке прибыло шестьсот пятьдесят рабочих, двести инженерно-технических работников и семьдесят шесть служащих.
Основными районами размещения эвакуированной белорусской промышленности стали Поволжье ‑ 47 предприятий, Урал ‑ 35, средняя полоса РСФСР ‑ 28, Западная Сибирь ‑ 8. Остальные шесть заводов и фабрик и четырнадцать промышленных артелей были размещены в других регионах СССР.
Эвакуированные предприятия в большинстве случаев сливались с местными заводами и фабриками, родственными по специализации. Сохранили полную самостоятельность около двадцати предприятий ‑ «Гомсельмаш», «Красный металлист», Витебские оптическая фабрика, игольный завод, фабрики «КИМ», «Знамя индустриализации», имени К.Цеткин, Гомельская фабрика имени «8 Марта» и ряд других. Рабочие, инженерно-технические работники монтировали оборудование в самые краткие сроки ‑ события на фронте беспокоили всех. Завод «Гомсельмаш» был смонтирован в Кургане за тридцать суток. В течение одного дня выполнялась работа, на которую в мирное время уходило три-четыре дня. За месяц установили оборудование и начали осваивать военную продукцию рабочие и инженерно-технические работники станкостроительного завода имени С.М. Кирова, эвакуированного из Гомеля в Свердловск. В августе-сентябре 1941 года в строй вступило пятнадцать заводов и фабрик, эвакуированных из Беларуси, а в октябре-ноябре еще двадцать предприятий. К лету 1942 года оборонную продукцию, несмотря на все сложности с сырьем и с комплектующими узлами и деталями, уже давали коллективы шестидесяти предприятий. Налаживание этих производств на новых местах рабочие и инженерно-технические работники проводили с большим напряжением ‑ тяжело было не только на фронте, тяжело было и в советском тылу. Работали на строительных площадках по несколько смен подряд без отдыха. Станки часто ставились на забетонированных местах под открытым небом или под временными навесами от дождя и снега, и начинали выпуск продукции.
Один из крупнейших заводов – «Гомсельмаш», был размещен на площадке завода, который до войны выпускал бидоны, сепараторы и другую мелкую продукцию. Развернуть на такой базе предприятие-гигант было очень тяжело, несмотря на наличие электроэнергии и водоснабжение. Люди по пять-шесть смен не уходили со своих рабочих мест. И уже в сентябре 1941 года завод дал первую продукцию ‑ минометы. Гомельский станкостроительный завод имени С.М. Кирова (в Свердловске) входил в перечень главных предприятий по выпуску вооружения. Его продукция была характерна высоким техническим уровнем. Кроме Гомельского станкостроительного завода были еще эвакуированы Витебский и Могилевский станкостроительные заводы, которые, развернувшись на новом месте, тоже давали качественную военную продукцию.
Значительным тормозом в планировании производства на новом месте была нехватка рабочей силы, поскольку одни ушли в армию, а другие вынужденно остались на оккупированной территории Белоруссии. Например, с Гомельского завода «Двигатель революции», на котором до войны насчитывалось двести пятьдесят один работник, было эвакуировано только сто двадцать человек. На Витебской трикотажной фабрике «КИМ», из пяти тысяч ста семидесяти шести работавших, эвакуировалось всего четыреста человек. Выход нашли в привлечении женщин, пенсионеров, подростков. Их обучали профессиям прямо на рабочих местах. Немалые трудности создавало и резкое изменение специализации предприятий. Так металлообрабатывающие и машиностроительные заводы выпускали боеприпасы, оружие, боевую технику; предприятия местной промышленности и промкооперации ‑ лыжи, ранцевые огнеметы, санитарные повозки, саперные лопатки, носилки и другую необходимую фронту продукцию; предприятия легкой промышленности изготовляли шинельное сукно, ткань для гимнастерок, белье, телогрейки, сапоги, консервы и так далее.[131]
Это общая картина эвакуации из Белоруссии. В разрезе областей эвакуация выглядела следующим образом. Из Витебской области в течение пятнадцати дней (немцы ворвались в Витебск 10 июля) удалось вывезти станочный парк некоторых предприятий; электрооборудование, полуфабрикаты, цветные и черные металлы заводов игольного и станкостроительного, очковой фабрики; оборудование швейных фабрик «Знамя индустриализации» и «Профинтерн»; обувных фабрик «Прогресс» и «Красный Октябрь»; трикотажных фабрик имени К.Цеткин и «КИМ»; Оршанского льнокомбината; предприятий Осинторфа, БелГЭС и других. Но многое, к сожалению, не смогли вывезти. Всего из области было отправлено на восток СССР две тысячи пятьсот вагонов с оборудованием, сырьем и готовой продукцией. В советский тыл были эвакуированы основной состав технических специалистов и квалифицированных рабочих. Из Могилевской области за первую половину июля (немцы оккупировали Могилев в конце июля) было вывезено девятьсот тридцать пять вагонов промышленного оборудования ‑ станков, электромоторов, машин, а также цветных металлов, готовой продукции. Одним из первых начал эвакуацию могилевский завод авиационного моторостроения, который к началу войны находился только на стадии пуска. Прежде всего, отправляли ценное оборудование сборочного. механического, инструментального и других основных цехов. Погрузка в вагоны происходила на железнодорожной станции Луполово в трех-четырех километрах от города. В период со второго по десятое июля были отправлены в тыл три огромных эшелона со всем станочным оборудованием завода ‑ около четырехсот металлорежущих станков, цветные и черные металлы, инструменты, электромоторы, кабель. На восток страны было отправлено все оборудование Могилевского металлокомбината, швейной фабрики, Быховского ацетонового завода, фабрики искусственного волокна, Шкловской бумажной фабрики, частично оборудование Кричевского цементного завода, труболитейного завода, предприятий пищевой промышленности. Всего со второго по четырнадцатое июля с Могилевской области удалось вывезти оборудование и кадры рабочих и инженерно-технических работников двадцати двух предприятий союзно-республиканского значения.
В сравнительно более удобных условиях проводилась эвакуация в Гомельской и Полесской областях, которые были захвачены войсками Вермахта только во второй половине августа. До двенадцатого июля из Гомеля были отправлены заводы: станкостроительный, паровозовагоноремонтный и судоремонтный, «Гомсельмаш», для эвакуации которого потребовалось одна тысяча сто вагонов и трое суток погрузки, оборудование обувной фабрики «Труд», спичечных фабрик «Везувий» и «10 лет Октября», три турбогенератора Гомельской электростанции и другие. С Полесской области было вывезено на восток оборудование Мозырской электростанции, деревообрабатывающего и фанерного заводов «Профинтерн» и «Красный Октябрь», мебельной фабрики «Пролетарий», спиртзаводов и так далее. Буквально накануне прихода захватчиков удалось вывезти ценное оборудование Микашевичского завода спецдревесины (шла на изготовление самолетов).
Эвакуация такого количества заводов и оборудования в самые сжатые сроки стала возможной только в результате массового трудового героизма рабочих, инженерно-технических работников, служащих. Руководили мероприятиями по эвакуации промышленности, специально созданные для этого штабы, во главе с директорами предприятий, представителями партийных и советских органов. Никакой стихийности, а тем более паники не было, хотя трудностей и недостатков при проведении эвакуации хватало. Согласно постановлению ЦК Компартии Белоруссии от 11 июля для оказания помощи эвакуированным, а у многих ничего не было при себе кроме личной одежды и немного еды. В пограничных, с РСФСР районах, были организованы контрольно – пропускные пункты, где постоянно находились уполномоченные правительства БССР и партийные работники, которые оказывали различную помощь. Например, в Могилевской области работали два таких контрольно – пропускных пункта (в Кричеве и в Климовичах). Все расходы, связанные с перевозкой эвакуируемых грузов и оказания материальной помощи эвакуированному населению, предприятиям и организациям, шли за счет государственного бюджета. Во второй половине 1941 года эти суммы составили около четырехсот миллионов рублей.[132]
Вторым важнейшим направлением, наряду с эвакуацией многих заводов и фабрик с четырех восточных областей Белоруссии была эвакуация, по мере сил и возможностей в условиях лета 1941 года, из этих областей и части Минской, материальных ресурсов сельского хозяйства, машинного парка МТС (государственных машинотракторных станций), колхозного и совхозного скота (кроме лошадей). Определенная часть скота была передана войскам Красной Армии, часть эвакуирована своим ходом, часть роздана местному населению, часть забита на месте (например, свиней, так как их нельзя было угнать на значительные расстояния). В течение июля-августа в советский тыл эвакуировали тридцать шесть МТС с полным оборудованием, около пяти тысяч тракторов, свыше шестисот комбайнов, молотилки, станки и другая техника. С районов БССР, пока не подвергшихся оккупации, было переслано на восток более шестисот семидесяти сорока тысяч голов скота, которые направлялись в Смоленскую, Калининскую, Курскую, Орловскую области РСФСР, тысячи тонн горючего и смазочных материалов, девяносто три и шесть десятых тысячи тонн зерна.
Только из Могилевской области в июле на восток было вывезено две тысячи шестьдесят пять тракторов, девяносто восемь моторов к комбайнам, семьдесят тысяч голов крупного рогатого скота, двадцать семь тысяч овец, три тысячи пятьсот голов свиней. С зернопродуктами поступали по-разному: из имевшихся двадцати девяти тысяч трехсот тридцати тонн вывезли всего десять тысяч триста десять тонн, уничтожили, чтобы не досталось врагу, шесть тысяч восемьсот тонн, передали частям Красной Армии две тысячи тонн. Основная масса скота и сельскохозяйственных машин двигались своим ходом, Их сопровождали семнадцать тысяч семьсот шестьдесят пастухов и более трех тысяч девятьсот трактористов. Железные дороги были перегружены как переброской частей Красной Армии, боеприпасов, горючего, боевой техники, раненых, так и эвакуацией большого числа промышленных предприятий и сотен тысяч населения. Лишь незначительное число сельскохозяйственной техники и скота транспортировалось по железной дороге. Когда не было возможности эвакуировать скот, его раздавали населению и частям Красной Армии. Всего из общественного сектора было передано более семидесяти шести тысяч голов. В тех случаях, когда не было возможности эвакуировать сложную сельхозтехнику, ее разбирали и прятали от гитлеровцев. В результате в тыловые районы удалось вывезти более шестидесяти процентов тракторов, восемнадцать процентов комбайнов, пятьдесят три процента крупного рогатого скота. Скот своим ходом двигался достаточно медленно и к началу 1942 года в хозяйствах Горьковской, Саратовской, Рязанской, Пензенской и Куйбышевской областей, в Мордовии и Чувашии было взято на учет, эвакуированного из Белоруссии скота, около двухсот тысяч голов. Около пятнадцати процентов скота погибло в дороге из-за нехватки кормов, отсутствия необходимого водопоя и усталости; двадцать-двадцать пять процентов было передано во время перегона воинским частям и государственным организациям. Эвакуированные из Белоруссии, сельскохозяйственные ресурсы быстро включались в народнохозяйственный комплекс страны, помогали обеспечивать советских людей продовольствием и давать сырье промышленным предприятиям, а колхозам и совхозам использовать прибывшую сельхозтехнику для лучшей обработки земли. Спасая народное добро, колхозники проявляли мужество и самоотверженность. Так, трудящиеся колхоза «Пролетарий» Любанского района Минской области, не успели эвакуировать все общественное стадо до прихода гитлеровцев. Председатель колхоза Б.Е. Рудько и тринадцать колхозников прямо из-под носа у немцев угнали скот в Полесскую область, которая еще не была оккупирована. Позже председатель и еще десять колхозников в течение июля-августа 1941 года перегнали двести пятьдесят коров на восток страны. Группа пастухов и доярок, под руководством зоотехника Г. Пашкевич из совхоза «10 лет БССР» Гомельской области, вывели в советский тыл четыреста дойных коров. Из совхозов и колхозов Могилевской области («Вейно», «Воронино», имени Калинина, «Победы») со 2-го по 14-е июля эвакуировали в тыл страны одну тысячу сто тридцать голов племенного крупного рогатого скота. Путь в глубину СССР часто был длительным. Например, рабочие совхоза «Вейно» (Могилевский район) В. Козлов, М. Козлова, трое Астаповых, И. Мартынович, В. Кирилович, Д. Прохоренко и Ф. Прохоренко, под руководством директора совхоза М. Здановича, более трех месяцев гнали стадо племенных коров по дорогам Белоруссии и России пока не пришли в Хоперский зерносовхоз Сталинградской области. Перегон скота нередко был связан с немалой опасностью. В Туровском, Житковичском, Паричском, Василевичском районах Полесской области стада скота двигались под артиллерийскими обстрелами. Нередки были полеты вражеской авиации, обстрелы из пулеметов и бомбежки.
Сельские группы содействия и добровольческие формирования смогли отправить в тыл более восьмидесяти тысяч тонн зерна. Надо было убирать созревающий урожай, чтобы зерно не досталось врагу. Здесь применялись два подхода. В первом, там, где фронта еще не было, уборку осуществляли в обычном порядке. Это относилось к колхозам Комаринского, Брагинского, Хойникского, Мозырского, Наровлянского районов Полесской области, Уваровичского, Светиловского, Ветковского, Добрушского, Гомельского, Тереховского, Лоевского районов Гомельской области (двенадцать районов позже других захваченных немецкими войсками). Во втором ‑ подход был не догматичным. Главное было убрать урожай. Руководствуясь директивой Государственного Комитета Обороны (высшего органа власти в стране в годы войны) об уборке урожая 1941 года во фронтовых и прифронтовых районах, посевы зерновых культур в двадцати четырех районах Белоруссии были распределены среди колхозников по полтора-два гектара на каждый двор. Это не был формальный роспуск колхозов и восстановление крестьянской собственности на землю. Но неизбежно, и в скором времени, приводило к столкновению грабительских интересов оккупантов и интересов крестьян, для которых жизненной необходимостью было прокормить себя и свои семьи, а в дальнейшем снабжать продовольствием партизанам. К середине августа 1941 года уборка зерновых, в основном, была закончена во всех тридцати шести не оккупированных врагом районах республики. [133]
Нельзя не сказать об упорной работе и повседневном героизме белорусских железнодорожников. По мере отступления частей Красной Армии они приняли на свои плечи весь почти неподъемный груз, как эвакуации, так и переброски советских войск и их материально-технического снабжения. Железнодорожники, работавшие на Брест-Литовской, Белорусской и Западной железных дорогах, угоняли в глубь страны подвижной состав, увозили материальные ценности и собственность Барановичского, Борисовского, Оршанского, Витебского, Могилевского, Гомельского железнодорожных узлов. Основная часть хозяйства и кадровый состав этих трех магистралей были эвакуированы. Последний эшелон из Минска был выведен 28 июня, когда на улицах города уже были немецкие танки, и шла ружейно-пулеметная стрельба. Так было не только в Минске. До последней минуты отправлялись поезда и резервные локомотивы из Витебска, Орши, Могилева, Гомеля, Калинковичей, Мозыря, Полоцка и других железнодорожных узлов. Массовым был героизм железнодорожников, которые вывозили грузы и людей. Пример показывали работники Минского узла. Они отремонтировали поврежденные бомбами станционное и путевое хозяйство, паровозы, подвижной состав. Ремонтные работы в условиях ежедневной и частой бомбежки велись непрерывно. Минский узел принимал и отправлял поезда даже тогда, когда немецкие войска находились уже на окраине города.
Бесстрашно и, невзирая на время работы, действовали железнодорожники в центральных областях Белоруссии. Машинист С.А.Сорокин в течение трех суток не сходил с паровоза и под обстрелом самолетов противника вывозил нужные грузы со станций Молодечно и Крулевщизна. Составитель поездов станции Молодечно В.В. Пономарев во время налета гитлеровской авиации 24 июня один, без сцепщика, растянул загоревшиеся составы и спас, ценные грузы и боеприпасы. 28 июня машинист Оршанского узла вывел из Борисова, под огнем немецких автоматчиков, последний эшелон с ранеными и беженцами. Оставляя с последним поездом Оршу, начальник паровозного депо К.С. Заслонов на митинге, накануне состоявшемся в депо, сказал всем собравшимся: «Наша возьмет, наш народ не может быть побежден. Мы укажем гитлеровским прихвостням дорогу назад». В сентябре 1941 года, по инициативе Заслонова, из добровольцев, бывших железнодорожников Орши, Смоленска и Вязьмы был создан 18-й диверсионный отряд, который с ноября 1941 по февраль 1942 действовал в подполье в Орше. Сам Заслонов стал командиром партизанского отряда, а затем и бригады. Погиб в бою в ноябре 1942 года. За подвиги в борьбе с оккупантами К.С. Заслонову посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.
Железнодорожники делали все, чтобы грузы и эшелоны, невзирая на смерть и раны товарищей, шли беспрепятственно. Пример мужества и героизма показывали железнодорожники Могилевской области. В условиях непрерывных бомбежек и стычек с вражескими диверсионными группами они самоотверженно работали, спасая людей и народное имущество. Работу Могилевского железнодорожного узла возглавлял начальник станции А.А. Грос. Узел быстро, без задержек, оперативно пропускал войсковые и эвакуационные эшелоны и грузы. Второго июля на станции Копыль самолеты врага обстреляли поезд. Машинист погиб, был смертельно ранен дублер кочегара, поврежден паровоз. Но помощник машиниста П.М. Денисов сумел довести поезд до Шклова, где он был крайне, нужен. На станции «Победитель» фашисты обстреляли другой поезд, ранили машиниста и его помощника, но кочегар К.А. Гегелев, с помощью раненого машиниста, доставил состав в Кричев. По трое-четверо суток без отдыха работал машинист Могилевского депо Т.Ф. Панфилович. Вместе со своим помощником И. Антоновым, он в нужное время доставил поезд с боеприпасами на тот участок фронта, где решалась судьба боя.
Создавали железнодорожники и бронепоезда с артиллерией и пулеметами, которые хорошо били гитлеровцев, нанося им потери в живой силе и технике. В Гомеле переоборудовали под бронепоезд два паровоза с платформами. Такой бронепоезд был и в Могилеве. Комендант станции Могилев дал задание рабочим построить бронепоезд. Было всего двадцать человек слесарей, которые сразу же приступили к работе. Работали круглосуточно, отдыхали по очереди. На паровоз и три четырехосных вагона поставили стальное прикрытие и установили орудия и пулеметы. Бронепоезд был сделан всего за шесть суток самоотверженного труда железнодорожников.
Только работники Белорусской железной дороги, которая действовала дольше других, проходящих через республику, смогли вывезти в советский тыл в условиях военных действий до четырехсот тридцати паровозов и около пятнадцати тысяч вагонов, эвакуировали оборудование автоблокировки, сигнализации, связи и так далее. Гитлеровцам для возобновления работы железных дорог приходилось завозить все необходимое оборудование из Германии и других оккупированных ими стран, что требовало времени и значительно замедляло движение эшелонов и поездов с живой силой и боевой техникой, в которых фашисты остро нуждались на фронте. В то же время около пяти тысяч работников железнодорожного транспорта Белоруссии, эвакуированных вместе с оборудованием, паровозами и подвижным составом в советский тыл, работали на сорока тыловых и прифронтовых дорогах, помогая Красной Армии сдерживать удары нацистских войск.[134]
Несмотря на крайне сложную и очень негативно развивающуюся военную обстановку, были предприняты меры и по эвакуации учреждений культуры, науки, образования республики. Другое дело, что об этом крайне мало имеется опубликованных данных, да и те носят самый общий характер. Были спасены и направлены в эвакуацию на восток СССР шестьдесят научно – исследовательских институтов, двадцать высших и средних учебных учреждений, шесть театров, материальные и культурные ценности, ряд кадров ученых, преподавателей, артистов. В Москве, Алма-Ате, Ташкенте, Чимкенте, Фрунзе и других городах в 1941‑1942 годах возобновили работу некоторые научно – исследовательские, высшие и средние учебные заведения, Академия Наук БССР, Белорусский государственный университет, учреждения культуры. В марте 1942 года в Казани состоялась научная сессия Академии Наук БССР.
Восстановили работу драматический театр имени Янки Купалы в Томске, драматический театр имени Якуба Колоса в Казахстане, Белорусский театр оперы и балета в Горьком, Русский театр БССР в Москве. Только театр имени Янки Купалы с момента эвакуации и до конца 1941 года осуществил постановку более десяти спектаклей, которые пользовались большим успехом. Коллективы белорусских театров много выступали с концертами в воинских частях, госпиталях. Более двухсот произведений разных жанров создали в 1941–1943 годах белорусские композиторы, Н.И. Аладов, Г.К. Пукст, И.И. Любан, Е.К. Тикоцкий, А.В. Богатырев и другие. Все это служило фундаментом будущего возрождения и развития культуры, науки, образования в послевоенный период в Белоруссии. Сотни студентов и преподавателей вузов и техникумов воевали с нацистами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье. Многие из них погибли в этой борьбе за нашу Родину.[135]
Эвакуация, и организованная, и стихийная, быстрая или поэтапная, была спасением многих сотен тысяч жителей Белоруссии от нацистских убийц, грабителей, фашистских жестокостей, массовых расстрелов по политическим или национальным признакам. Многие тысячи жизней спасли медицинские работники и местные жители, которые ежедневно, рискуя своими жизнями, находили, лечили, выхаживали, кормили, прятали раненых и больных красноармейцев и командиров. Если гитлеровцы обнаруживали подобное, то никакой пощады не было ни тем, кого укрывали, ни тем, кто укрывал, включая их семьи. А так как в одиночку, врачи, фельдшеры, медицинские сестры и местные жители в лучшем случае могли спасти лишь одного или двух раненых, то сама логика жизни направляла их организовываться в группы, которые быстро перерастали в подпольные группы и организации.
Подпольщики, в том числе и медицинские работники, помогали раненым лекарствами, перевязочным материалом, хирургическими и другими врачебными инструментами для раненых. Добывали радиоприемники и слушали сводки Совинформбюро, записывали их и распространяли среди населения, расклеивали листовки с разоблачением целей и задач захватчиков, собирали на полях прошедших боев оружие и боеприпасы, хранили и в дальнейшем передавали партизанам. Подпольщики устанавливали связь с первыми партизанскими отрядами и группами, с другими подпольными патриотическими организациями, переправляли вылечившихся, красноармейцев и командиров Красной Армии, к партизанам, или к линии фронта, для возвращения их в войска. Все это начиналось еще летом 1941 года.
Среди патриотов-медиков, по разным обстоятельствам, оставшимся на оккупированной территории, были врачи, медсестры, фармацевты, санитарки, а также военные медики, попавшие в окружение, или, верные долгу медработника, оставшиеся с воинами, которых не успели эвакуировать. Позже, многие из них в 1942–1944 годах добровольно уходили к партизанам. Первые медпункты у партизан возникли в марте-апреле 1942 года. В начале 1943 года Центральный штаб партизанского движения (организован 30 мая 1942 года в Москве) приказом обязал руководство всех партизанских отрядов, бригад и соединений создать медицинскую службу во главе с врачами. Росла и численность врачей – партизан: в конце 1942 года их было сто шестьдесят шесть, в конце 1943года ‑ пятьсот тридцать восемь, а летом 1944 года ‑ уже пятьсот семьдесят врачей и более двух тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Результат? По данным Белорусского штаба партизанского движения (создан 9 сентября 1942 года в Москве) из пятнадцати тысяч раненых партизан вернулись в строй семьдесят восемь и четыре десятых процента, эвакуировано в советский тыл пятнадцать и восемь десятых процента.
Лечили партизанские врачи и местное население. Это составило более ста тридцати пяти тысяч жителей. Практически все медработники у партизан были или местные, или из военных, попавших в окружение или плен. Только единицы медработников направлялись к партизанам из советского тыла. Партизаны несли потери во время карательных экспедиций от бомбежек немецкой авиации, минометно-артиллерийских обстрелов по партизанским лагерям, от засад немецких егерских ягд – команд, от действий ложных партизанских отрядов. В борьбе с немецкими оккупантами погибло около трехсот пятидесяти медиков – партизан Белоруссии. Многие из медперсонала награждены орденами и медалями СССР. Особо следует сказать о двух медиках: профессоре Е.В. Клумове, главном враче Минской городской больницы, участнике Минского патриотического подполья. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он был казнен гитлеровцами вместе с женой 10 февраля 1944 года. Больница, в которой он работал, носит его имя; и А.М. Шевченко – медсестре партизанской бригады имени С.М. Кирова Минской области, которая вынесла с поля боя сто тридцать девять раненых, награждена орденом Ленина и высшей наградой Международного Комитета Красного Креста ‑ медалью Флоренс Найтингел.[136]
Активно действовали на еще не оккупированной врагом территории Белоруссии комсомольские организации, которые всемерно помогали и в развертывании госпиталей, и в уходе за ранеными воинами, и в подготовке необходимых медицинских кадров. Уже в первую неделю войны, как правило, в помещениях школ, с их помощью развертывались двадцать эвакуационных госпиталей на двенадцать тысяч восемьсот кроватей. К каждому эвакогоспиталю прикреплялись две-три комсомольские организации, принимавшие активное участие в их оборудовании, уходе за ранеными, ремонте медицинского имущества, добровольном сборе постельных принадлежностей, посуды, продуктов питания, так как ничего, кроме лекарств и медицинских инструментов, в походных госпиталях не было. Не было в достаточном количестве и медперсонала. Поэтому открывались краткосрочные курсы медсестер и санитаров. Так, в Гомеле, за короткое время их было подготовлено более трехсот человек. После окончания курсов большинство медсестер и санитарок, ушли на фронт. Комсомольские организации ‑ шефы госпиталей, оказывали большую помощь в эвакуации раненых в советский тыл. Ими были созданы дружины с круглосуточным дежурством без освобождения от основной работы. Дружинники помогали раненым при посадке в поезда, подвозили продовольствие и воду к эшелонам, ухаживали за тяжелоранеными.
Помощь раненым местные медработники и жители стали оказывать с первых дней войны, хотя за такую помощь гитлеровцы сразу расстреливали или вешали патриотов и их семьи, часто сжигали жилье. В этой человеческой заботе о раненых не было разделения на западные или восточные районы республики. Никто не обращал внимания ни на национальность, ни на партийность, ни на возраст.
Для спасения раненых были организованы тайные госпитали. Два таких госпиталя, под руководством сельского фельдшера Ф.И. Клавтуся, были организованы на окраине деревни Быковичи и в лесу, недалеко от деревни Антоново, Мирского района Барановичской области. Здесь лечились, выходившие из окружения, раненые и больные советские воины. Легкораненые укрывались в домах местных жителей, где им оказывалась медицинская помощь. Подпольный госпиталь, созданный по инициативе фельдшера И.И. Сорочинского, действовал в деревне Чернавчицы Брестского района. С первого дня войны И.И. Сорочинский и его односельчане подбирали и лечили раненых. Ему удалось вылечить пятнадцать воинов, имевших тяжелые ранения. Таких раненых фашисты добивали, если находили их на поле боя. А легко раненых или имевших ранение средней тяжести, бросали на верную смерть в лагеря для военнопленных. Более трехсот раненых военнослужащих спасли подпольщики, врачи и местные патриоты в городском поселке Узда и в деревне Даниловичи Дзержинского района Минской области. Повседневный героизм проявили акушерки Т.Г. Андриевская (Зайцева) и Э.А. Раецкая, санитарка М.И. Кухарчик, заведующий райздравотделом Ф.Д. Городничий, шофер районной больницы В.В. Коробко, жители деревни Даниловичи О.У. Шибко, О.К. Козел, Е.М. Морозова, М.А. Глунина. Подпольщик из Узды П.Х. Шибко организовал доставку раненым медикаментов, перевязочного материала, продуктов питания. Свыше трехсот человек выходили медицинские работники и жители районного центра Сенно (Витебская область).
Раненые советские воины лечились и в тайном госпитале в деревне Тарасово возле Минска, под носом у зверствующих гитлеровцев. В конце июня одна из частей Красной Армии, при отходе, вынуждена была разместить нетранспортабельных раненых бойцов в этой деревне. При активной помощи местного населения, военный врач Ф.Ф. Курчаев и начальник аптеки корпусного госпиталя военфельдшер Е.В. Саблер выхаживали легкораненых. В деревне возникла подпольная группа во главе с председателем колхоза В.И. Лошицким и директором школы П.М. Бортниковым. По инициативе подпольщиков, в соседних деревнях организовали сбор наволочек и простыней, которые использовались в качестве перевязочных материалов. Колхозница С.А. Василевская неоднократно ходила в Минск и скупала на Юбилейном рынке марлю, патриотка, М.И. Пикулик за сало приобретала йод. Жительницы М.А. Ильченко, М.М. Жилневская и другие стирали белье и бинты. В итоге было возвращено в строй восемьдесят бойцов.
Постоянно, подвергая свою жизнь смертельной опасности, жители городов и населенных пунктов спасали раненых.
Настоящий подвиг совершили медработники санитарного батальона 172-й стрелковой дивизии, оставшись с ранеными в оккупированном гитлеровцами Могилеве. Уцелевшие в боях бойцы дивизии в конце июля пошли на прорыв из окруженного города. Начальник медсанбата В.П.Кузнецов, военные врачи А.И. Паршин и Ф.И. Пашанина накануне захвата города за одну ночь уничтожили истории болезней на коммунистов, комсомольцев, командиров. Благодаря этому, от расправы были спасены многие военнослужащие, которые позже приняли участие в борьбе с фашистами. Большую помощь врачам и медперсоналу оказали подпольные группы, созданные в самом медсанбате, а также патриоты из числа жителей города. В ноябре 1941 года захватчикам удалось раскрыть одну из подпольных групп, которой руководил В.П. Кузнецов. Патриотов подвергли зверским пыткам, но они выдержали все и никого не выдали. Фашисты казнили врачей В.П. Кузнецова, А.И. Паршина, Ф.И. Пашанину на городской площади. [137]
Врачи и медперсонал из местных жителей нередко спасали раненых командиров и красноармейцев прямо с места боев. Так в Борисове, около шестидесяти тяжелораненых военнослужащих были перенесены с привокзальной площади, где шел ожесточенный бой, в здание роддома. Руководили их эвакуацией начальник врачебного железнодорожного участка П.М. Пустин и медсестра М.Ф. Виноградова-Громова. Медсестра А.И. Островская завела на раненых фиктивные документы, как на местных жителей. После выздоровления все они включились в борьбу против гитлеровцев.
Летом 1941 года создавались не только однородные, но и смешанные группы подпольщиков, в которые входили медики. В состав подпольной группы, созданной в Колодищах Минской области А.Я. Радюк и А.С. Старостиной, входила врач К.Р. Лесничева. В июле была создана подпольная группа на Болотной станции Минска, объединившая, в основном, сотрудников станции и 2-й Советской больницы. С августа 1941 года по июль 1944 года, вплоть до освобождения, действовала подпольная группа в медицинском пункте станции Минск-Пассажирский. Она объединяла двенадцать человек ‑ рабочих паровозного депо и медработников. Явками членов группы были квартира врача А.И. Главинской (одна из организаторов группы) и медпункт. В августе возникла подпольная группа в райцентре Дзержинск. В нее входили рабочие, бывшие военнослужащие, учителя, журналисты и врач Ю.А. Алтынин. В архивных документах отражено, что квартиры медицинских работников, их кабинеты в медицинских учреждениях, часто становились явками, использовались для хранения оружия, типографского шрифта, документов, а также медикаментов, перевязочных средств, медицинских инструментов ‑ то есть, всего того, что было необходимо партизанам и подпольщикам. Таким образом, участие медицинских работников в смешанных подпольных группах значительно расширяло возможности в общенародной борьбе с гитлеровцами.
Спасавшие раненых бойцов Красной Армии, местные патриоты, помогали воинам установить связь с партизанскими отрядами и группами и влиться в их ряды. При помощи жителей деревень Тарасово и Ратомка Минского района, организованных подпольщиками А.И. Вольским, В.И. Лошицким, Ф.Ф. Кургаевым, Е.В. Соблером, спаслись и вернулись в строй свыше ста бойцов и командиров. К осени 1941 года большая часть из них ушла в партизанские отряды. Позже Ф.Ф. Кургаев и Е.В. Саблер были арестованы гитлеровцами и 3 апреля 1942 года расстреляны. Но никакие репрессии не могли запугать патриотов. Многих красноармейцев в то огненное время укрывали и лечили: семья Денисюков из деревни Тращин Брестского района, молодежь деревни Лясковичи Ивановского района Пинской области, во главе с секретарем комсомольской организации Серафимой Бигозой. Колхозник из деревни Хацежина Минского района спас и вылечил раненого генерала М.П. Константинова, помог ему уйти в партизанский отряд.[138]
Таким образом, патриоты – врачи, средний и младший медицинский персонал, местные жители, не взирая на ежедневную угрозу жизни от гитлеровцев за помощь советским воинам, смогли вылечить и вернуть в строй тысячи и тысячи активных борцов с гитлеровцами и их прихвостнями.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ПЛАН «ОСТ» В ДЕЙСТВИИ
«Германия, Германия превыше всего!» ‑ провозглашали гитлеровцы, разрушая города и деревни, уничтожая жителей Белоруссии, мечтая о тысячелетнем нацистском рейхе, о том, как они и их потомки будут здесь господствовать, беспощадно эксплуатируя уцелевшее местное население. Расстрелы, виселицы, уничтожение сотен сел вместе с жителями, грабеж продовольствия, скота, любых материальных ценностей ‑ вот что нес с собою «новый порядок», устанавливаемый оккупантами в Белоруссии.
Три года насаждался фашистами «новый порядок» оккупационными войсками, всем оккупационным аппаратом власти. Каковы были итоги гитлеровского господства на оккупированной земле Белоруссии? В первую очередь это людские потери – около трех миллионов человек погибли из десяти миллионов жителей республики, в том числе погибло свыше восьмисот десяти тысяч военнопленных Красной Армии. Всему миру известна деревня Хатынь. Гитлеровцы сожгли ее вместе с жителями ‑ 149 человек, в том числе семьдесят пять детей. Трагедия Хатыни постигла 628 белорусских деревень. По далеко не полным данным оккупанты сожгли живьем и уничтожили другими изуверскими способами свыше трехсот тысяч местных жителей. Из общего количества девять тысяч двести сел и деревень, разрушенных и сожженных фашистами в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, пять тысяч двести девяносто пять было уничтожено, во время карательных операций, вместе с частью населения. Материальные потери были колоссальными. За годы войны разрушено и сожжено гитлеровцами двести девять из двухсот семидесяти городов и районных центров. В Минске, Витебске, Орше, Гомеле, Полоцке и в некоторых других городах разрушения составили от семидесяти до девяноста, и более процентов. Без жилья остались миллионы человек, а точнее ‑ третья часть населения республики. Оккупанты уничтожили или вывезли более десяти тысяч промышленных предприятий, девяносто процентов станочного и другого оборудования. Полностью было уничтожено сто тысяч четыреста шестьдесят пять промышленных производств, сто одиннадцать железнодорожных депо, триста девяносто восемь телефонных и телеграфных станций. Общий имущественный ущерб промышленности составил шесть миллиардов двести двадцать пять и два десятых миллиона рублей (в ценах 1941 года). Захватчики ограбили и разорили десять тысяч колхозов, сорок два совхоза, триста шестнадцать МТС, привели в негодность или вывезли в Германию девятьсот двадцать девять тракторов, тысячу сто комбайнов, более тридцати тысяч молотилок и около двадцати тысяч жнеек. Четыреста сорок тысяч колхозных семей (60%) были лишены личного скота, а имевшийся в колхозах и совхозах общественный скот был объявлен собственностью Третьего рейха. За годы оккупации (по сравнению с 1940 годом) уменьшились: посевные площади на сорок процентов, поголовье крупного рогатого скота почти на сорок девять процентов, лошадей на шестьдесят один процент, свиней на восемьдесят девять процентов, овец и коз на семьдесят восемь процентов. Захватчики старались не только массовыми убийствами подорвать биологический потенциал белорусского народа, но и насильственным вывозом населения, на принудительные работы в Германию и другие страны. Из более, чем трехсот восьмидесяти тысяч вывезенных, в основном юношей и девушек, живыми на Родину вернулись только сто двадцать тысяч. Остальные погибли от голода и холода, болезней, непосильного каторжного труда, жестоких пыток и прямого физического уничтожения. Начинался «новый порядок» в Белоруссии еще летом 1941 года, а далее ужесточался. Некоторые западные историки, особенно в Германии, США, Англии упрекают гитлеровцев, особенно их лидеров, в недальновидности или нежелании учитывать в оккупационной политике реальности настроения местного населения. Ставить только на военную силу, на массовый террор, даже в плохой подготовленности к действиям в условиях значительной захваченной территории и большого количества населения – ошибка. Все это «крокодиловы слезы» по неудавшемуся завоеванию СССР и многонационального советского народа, в том числе Белоруссии и белорусского народа, их подчинению нацистской Германии и ее союзникам. Планы для оккупированных территорий СССР и его населения разрабатывались заранее, еще до войны, утверждались и дополнялись высшими вождями нацизма и военной верхушки гитлеровского Вермахта – Гитлером, Гиммлером, Герингом, Кейтелем, Йодлем и другими с началом агрессии против СССР. Об этом ясно и полно свидетельствуют многие факты. Весь комплекс «нового порядка» был хорошо и всесторонне продуман. Не правы те зарубежные исследователи, которые весь ужас «нового порядка» ‑ в виде массового убийства людей и постоянного планомерного грабежа на оккупированных территориях объясняют только некими психологическими особенностями руководителей Третьего рейха, а также эксцессами со стороны отдельных представителей оккупационных войск и гитлеровской администрации на завоеванной советской территории. Это не так ‑ была целенаправленная и рассчитанная на длительное время государственная политика нацистской Германии. И проводили эту политику гитлеровцы сознательно, а не под влиянием психических отклонений. Идеологической основой нацизма были человеконенавистнические «теории» расового превосходства немецкой нации над другими народами, и необходимости максимального расширения «жизненного пространства» для немцев и «права» на всемирное господство арийской расы. То есть национализм в самых варварских и жестоких проявлениях.
Отмечая этот факт, следует знать, что нацистские главари отнюдь не были полностью самостоятельны в разработке и осуществлении крайне агрессивной внешней и военной политики оккупационных мероприятий их войск и полицейских сил, несмотря на крайнюю централизацию власти и принцип «Фюрер всегда прав» во всех областях жизни Третьего рейха. Гитлер и его ближайшее политическое и военное окружение лишь концентрированно выражали планы и волю германских монополий и помещиков-юнкеров, их безграничное желание прибыли и власти, полного презрения к жизни, материальным и культурным богатствам других народов, стремления к их завоеванию, порабощению. А всех, кто сопротивляется или не нужен – уничтожить. Волю, пожелания и требования германских монополий и военных руководящих кругов до нацистских главарей доносили неофициально группы, которые объединяли крупнейшие банки и военно-промышленные монополии, такие как «Фонд Адольфа Гитлера», «Кружок друзей рейхсфюрера» (Гиммлера). А заместитель Гитлера по государству и одновременно начальник ВВС Германии Герман Геринг сам был крупнейшим монополистом и чутко прислушивался к советам своих друзей из монополий и банков. Так что, если учитывать это решающее обстоятельство, то оккупационная политика гитлеровцев, на всей захваченной советской территории, была, с их точки зрения, логична и необходима
Гитлер, главный фюрер немецких нацистов, еще задолго до начала войны, откровенно писал: «Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны, в первую очередь, вытеснить и уничтожить славянские народы – русских, поляков, чехов, словенов, болгар, украинцев, белорусов …». И это были отнюдь не пустые мечтания и призывы. В марте 1941 года, еще до начала войны с СССР, в инструкции для специальных областей и в дополнении к директиве номер двадцать один (план «Барбаросса» по военному разгрому СССР), изданной начальником штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Кейтелем, обозначен план децентрализации и расчленения территории СССР, включая Белоруссию, а также предписывалось Вермахту, наряду со спецслужбами, активно участвовать в уничтожении советских людей. 6 июня был окончательно согласован и подписан текст инструкции об обращении с политическими комиссарами. В ней указывалось, что все политические комиссары Красной Армии, все другие функционеры, а также «прочие личности, имеющие политическую значимость, с которыми встретятся войска» должны быть немедленно расстреляны. Вскоре после нападения на СССР, начальник Главного управлении службы имперской безопасности (РСХА) Гейдрих, совместно с армейскими генералами, разработал директиву по обращению с советскими военнопленными, в которой говорилось об «изъятии», то есть убийстве всех «подозрительных военнопленных». Был принят ряд документов освобождающих немецких военнослужащих от любой ответственности за совершенные ими преступления по отношению к советским людям. Разрешая такие деяния, Кейтель 13 мая 1941 года подписал распоряжение «О военной подсудности в районе «Барбаросса». Оно требовало применения карательных мер к гражданскому населению и указывало на уничтожение не только тех, кто оказывал сопротивление гитлеровским войскам, но и их родных и близких. Приказ расстреливать «подозреваемых», послужил основанием для сплошного террора и убийств стариков, женщин, детей. Распоряжение Кейтеля гласило: «Действия против гражданского населения противника, совершенные лицами, принадлежащими к Вермахту и его прочим службам, не подлежат обязательному преследованию даже в тех случаях, когда они являются одновременно военным преступлением или поступком».
И все же находятся историки на Западе, которые пытаются обелить солдат Вермахта, доказать, что все зверства, массовые казни, бессудные расправы творили только эсэсовцы и сотрудники нацистских спецслужб, что немецкие генералы «не знали», что творят их солдаты с захваченным населением. А ссылки на то, что солдаты и офицеры, повинные в уничтожении мирного населения, лишь выполняли полученные ими приказы, начисто опровергаются определением Нюрнбергского суда над главными нацистскими преступниками о том, что выполнение преступных приказов не является оправданием тем, кто их выполняет.
16 июля, в период наибольших военных успехов в начале войны, выступая на совещании высших служебных чинов, Гитлер заявил, что советские территории должны быть навечно присоединены к Германии в качестве колоний. «В основном дело сводится к тому, ‑ цинично рассуждал фюрер, ‑ чтобы освоить громадный пирог с тем, чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли им и, в-третьих ‑ эксплуатировали». На этом совещании была определена структура военных, полицейских и гражданских оккупационных властей, конкретизированы методы «управления» оккупированных территорий и их населения.
Не отставали от Гитлера в стремлении претворить его планы в жизнь и ближайшие подручные фюрера. На основе плана «Барбаросса» Герингом были приняты, еще до войны, Директивы по руководству экономикой оккупированных восточных областей («Зеленая папка» Геринга) по проведению максимального ограбления и эксплуатации захваченных земель и населения. Конкретизацией этих директив, еще до нападения на СССР, являлась «Инструкция уполномоченного по продуктам питания и сельского хозяйства статс-секретаря Бакке «О поведении служебных лиц на территории СССР, намеченной к оккупации».
В протоколе совещания руководящей верхушки исполнительного органа штаба «Восточный штаб экономического руководства», подчиненного непосредственно Герингу, под названием «Восток», проведенного второго мая 1941 года, незадолго до начала войны с СССР, записано: 1. «Продолжать войну можно будет лишь в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны (отсчет начала войны ведется с 1 сентября 1939 года) станут снабжаться продовольствием за счет России. 2. При этом, несомненно: если мы сумеем выкачать из страны все, что нам необходимо, то десятки миллионов людей будут обречены на голод».
Для реализации данной программы в областях военного подчинения (до 1 сентября 1941 года в Белоруссии) под руководством штаба «Восток» фашисты организовали военно-хозяйственные инспекции, команды и группы при штабах командующих тылами групп армий, охранных дивизий и при полевых комендатурах.[139]
Наряду с экономическим ограблением, подчинением населения и системой эксплуатации, создавалась абсолютно античеловеческая система уничтожения большинства населения и превращения в рабов оставшихся. Основные направления этой политики изложил Гиммлер в секретном меморандуме «Некоторые мысли об обращении с населением на Востоке» от 25 мая 1940 года. В нем указывалось, что захваченные восточные территории нужно рассматривать как объект колонизации и германизации. Для этого предлагалось расчленить, проживающее здесь население на мелкие группы, что должно было препятствовать любым попыткам их объединения и давало бы возможность уничтожать один за другим славянские народы. Политика оккупантов, указывалось в этом меморандуме, должна быть направлена на то, чтобы превратить основную массу местного населения в полуграмотных рабов, которые могли бы считать не более чем до пятисот, писать свое имя, беспрекословно подчиняться немцам и знать «закон божий» (в нацистской трактовке).
Процесс германизации намечалось вести «путем отбора детей, которых должны отнимать у родителей и посылать в Германию и там ассимилировать». Безусловно, это касалось детей, имеющих «арийские» внешние признаки. Осуществление всей программы германизации было рассчитано на десять лет, после чего на востоке осталось бы только «неполноценное население», пригодное исключительно для «черных» работ. Чудовищные замыслы германских захватчиков по колонизации территорий СССР (включая Белоруссию), физического уничтожения местного населения, заселению оккупированных земель немецкими колонистами (не исключалась возможность привлечении в качестве колонистов и лиц из Западной и Северной Европы, отвечающих «арийским» признакам и лояльных к нацистской Германии) отражены в генеральном плане «Ост». Он был сформулирован в мае 1940 года, а первый вариант плана датирован 15 июля 1941 года, когда нацистам казалось, на гребне военных успехов, что еще два-три месяца и Советский Союз будет полностью разгромлен. В мае 1942 года и в феврале 1943 года были представлены высшему руководству Третьего рейха второй и третий варианты плана «Ост», когда гитлеровцы, несмотря на крах «молниеносной войны», все еще надеялись на победу. По данному злодейскому плану гитлеровцы рассчитывали за тридцать лет на территории СССР и Польши уничтожить сто сорок миллионов человек ‑ русских, украинцев, белорусов, поляков, большинство населения Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Сибири. На этих, «освободившихся» от местных жителей, землях рассчитывали расселить миллионы колонистов и некоторое количество обслуживающих их рабов.
В Белоруссии фашисты намеревались, после ликвидации всех «неблагонадежных», семьдесят пять процентов, оставшихся «выселить» на Крайний Север без теплой одежды, без продовольствия, без жилья – на верную смерть. А двадцать пять процентов превратить в рабов и онемечить. Нацисты планировали расселять колонистов и подчиненных им рабов следующим образом: Минск – пятьдесят тысяч колонистов и сто тысяч местных жителей в качестве рабочей силы (далее в скобках количество местных жителей). Гомель ‑ тридцать тысяч (50 тысяч), Могилев – двадцать тысяч (50 тысяч), Витебск – двадцать тысяч (40 тысяч), Пинск – десять тысяч (25 тысяч), Гродно – десять тысяч (20 тысяч), Барановичи – десять тысяч (20 тысяч), Орша – десять тысяч (20 тысяч), Борисов – пять тысяч (15 тысяч), Лида – пять тысяч (15 тысяч), Новогрудок – пять тысяч (15 тысяч) и так далее. Только в двадцати, наиболее крупных городах Белоруссии, в которых до войны проживало свыше миллиона человек, гитлеровцы рассчитывали оставить в живых лишь около четырехсот тысяч местных жителей и поселить двести тысяч колонистов.
Но и это еще далеко не все. В ходе войны, опираясь на план «Ост», гитлеровцы разрабатывали краткосрочные (ждать 30 лет, постепенно уничтожая местное население, они уже не собирались) конкретные задачи по ликвидации населения СССР. Выполнение их было рассчитано на ближайшие четыре года после предполагавшегося «победоносного» окончания войны нацистской Германией. По ним Белоруссию от западной ее границы до линии Гродно–Слоним, южную часть Брестской области, районы Пинска, Мозыря и остальную часть Полесья по линии Пружаны, Ганцевичи, Паричи, Речица предполагалось полностью очистить от местного населения и поселить на ней только немецких колонистов. Немного позже, Гиммлер, выступая перед высшими чинами СС и полиции в своей полевой ставке около Житомира, заявил: «Мы должны германизировать и заселить Белоруссию, Эстонию, Латвию, Литву, Крым» и в письме к одному из авторов плана «Ост» он утверждал: «Упомянутые области должны быть тотально (полностью) германизированы, то есть заселены». Как и кем нацисты хотели заселить территорию нашей республики, абсолютно понятно. Понятно и то, какая трагическая судьба, ожидала местное население.[140]
Немецко-фашистские захватчики быстро и последовательно проводили политику максимального разъединения территории и населения Белоруссии. Оккупировав республику, гитлеровцы сразу заявили о ликвидации белорусского государства в любой форме, всех социальных и национальных завоеваний советской власти. Они ввели свой административный раздел с целью преобразовать Белоруссии в колонию и аграрно-сырьевой придаток Третьего рейха. Оккупанты расчленили территорию республики на несколько регионов: юго-западные районы Брестской области и Белостокскую область, с городами Гродно и Волковыск, присоединили к Восточной Пруссии; южные районы Брестской, Пинской, Полесской, Гомельской областей с областными центрами Мозырь, Пинск, Брест, к, так называемому, «рейхскомиссариату» Украины, граница которого находилась примерно в двадцати километрах севернее железной дороги Брест–Гомель; северо-западные районы Вилейской области включили в «генеральный округ Литва»; Витебскую, Могилевскую, большую часть Гомельской и восточные районы Минской областей – в зону армейского тыла группы армий «Центр». Часть Белоруссии вошла в «генеральный округ Белоруссия», в составе которого находились Барановичская, Вилейская, большая часть Минской, северные районы Брестской, Пинской, Полесской областей, что составляло лишь одну треть довоенной территории БССР. Эта территория была включена в состав рейхскомиссариата «Остланд», с центром в Риге, и поделена на одиннадцать округов (гебитов): Барановичский, Борисовский, Вилейский, Ганцевичский, Глубокский, Лидский, Минский, Новогрудский, Слонимский, Слуцкий и город Минск. Их население составляло три миллиона сто тысяч человек. Генеральным комиссаром с августа 1941 года был убежденный нацист Вильгельм Кубе. Ему подчинялись гебиткомиссариаты (округа), штатскомиссариаты (города) и арткомиссариаты (районы). Вся система административного управления строилась на принципе «фюрерства», что давало оккупантам неограниченную власть по отношению к гражданскому населению. Были созданы, в качестве вспомогательных местных марионеточных властей, городские и районные управы во главе с бургомистром города или начальником района. Районы делились на волости, в которые назначались волостные председатели. Волостям подчинялись села, где назначались старосты. Контроль за местными «властями», осуществляли оккупанты. В восточной части Белоруссии военно-административные функции выполняли созданные Вермахтом полевые и местные комендатуры. Действовали одиннадцать полевых и двадцать три местных комендатур. Полевым комендатурам подчинялись местные комендатуры и так называемые местные гражданские власти, которые назначались военными властями. Все комендатуры подчинялись штабу тыла группы армий «Центр» и командованию охранных дивизий.[141]
Главным, но не единственным, средством колонизации нацистской Германией белорусских земель и белорусского населения был массовый, ежедневный, крайне зверский террор. Убийства, расстрелы. Людей заживо сжигали, вешали, уничтожались целые селения. Насилие и беспощадный грабеж – вот основные методы фашистского господства на захваченных Вермахтом территориях, в городах и селах. Гитлер указывал, что «надо развивать технику обезлюживания оккупированных земель». Он же, в июле 1941 года, на одном из совещаний заявил, что с захватом советской территории окончательно устанавливается оккупационный «новый порядок», чтобы не нажить себе преждевременно и без нужды врагов. Основной принцип, по его словам, заключается в том, чтобы «окончательное решение» было подготовлено заранее. Гитлер подчеркнул, что «все необходимые меры – расстрелы, выселение и тому подобное – мы делаем несмотря ни на что, и мы можем это делать». Сопротивление, тем более вооруженное, помощь со стороны местного населения тем, кто боролся с захватчиками, должно быть сразу и полностью подавлено, а партизаны и подпольщики уничтожены ‑ требовал фюрер. 16 июля 1941 года он заявил: «Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет свои преимущества: она дает нам возможность истреблять всех, кто восстает против нас». Понимая, что повсеместное введение фашистского «нового порядка» неизбежно вызовет ответное сопротивление населения, нацисты хотели с помощью всеобъемлющего и ежедневного террора подавить даже мысль о борьбе против оккупантов. В таком терроре самое активное участие принимало командование Вермахта. Начальник штаба верховного главнокомандования Вермахта Кейтель (в 1946 году по приговору Нюрнбергского международного суда над главными военными преступниками повешен) утверждал, вслед за Гитлером, что покончить с повстанческим движением на захваченной территории СССР можно только с помощью «драконовских мер», применение которых оккупационными войсками должно создать такую атмосферу ужаса и страха, что люди потеряют охоту к оказанию сопротивления.[142]
Все эти «драконовские меры» и полная вседозволенность солдатам и офицерам Вермахта по отношению к местному населению не ослабляли, а только усиливали бескомпромиссную борьбу советских людей против оккупантов, несмотря ни на какие жертвы. Ведь стоял вопрос о биологическом выживании белорусского и других народов Советского Союза. Жертвы были колоссальны – и людские, и материальные. За годы войны Белоруссия потеряла около трех миллионов человек населения (из десяти миллионов в современных границах) и понесла материальный ущерб, оцененный в семьдесят пять миллиардов рублей (в ценах 1941 года). Ни одна страна в мире не понесла таких страшных потерь – погиб почти каждый третий житель Республики. Ущерб, понесенный нашей республикой, составил более половины национального богатства, создаваемого веками.
Репрессии фашисты начали проводить с первых дней войны. Гитлеровцы тщательно готовились к войне. Они еще до захвата Бреста 22 июня имели в городе и в районах разветвленную шпионскую сеть. Врагу были известны не только фамилии и адреса всех руководящих партийных, советских, комсомольских и хозяйственных работников, но и многих рядовых коммунистов, бывших членов Компартии Западной Белоруссии (КПЗБ), а также все важнейшие объекты и промышленный потенциал Брестской области. Сразу после захвата города карательные отряды ходили по имеющимся адресам и арестовывали партийный и советский актив, представителей еврейской национальности. Сотни патриотов были схвачены и замучены в самом начале войны. Эти репрессии продолжались и в дальнейшем. В сводке полиции безопасности и СД сообщалось, что в июле-августе в Бресте было «ликвидировано» восемь тысяч двести девяносто человек. Были и факты предательства некоторых местных жителей, которые хотели выслужиться перед оккупантами или, с их помощью, свести личные счеты. В августе, по доносам предателей, в городе Бресте и Брестской области гитлеровцы расстреляли 400 человек членов и кандидатов в члены компартии Белоруссии, комсомольцев, депутатов местных советов и активистов. Казни часто проводили прямо во дворах домов, заставляя обреченных рыть себе могилу.
В сводке № 32 от 1 августа полиции безопасности и СД в Берлин говорится «о ликвидации в десяти деревнях Барановичской области шестидесяти семи агентов НКВД и партийных функционеров, в том числе трех красных комиссаров». В самом городе Барановичи сотрудниками ГФП (тайной полевой полиции), абвергруппы и полевой жандармерии было ликвидировано триста восемьдесят один человек, которых гитлеровцы считали большевистскими агентами, политкомиссарами, бывшими сотрудниками НКВД (включая милиционеров). В г. Слониме (Барановичская область) отдельные айнзатцкоманды (специальное карательное подразделение эсэсовцев), включавшие в себя сотрудников СД, ОД (службы порядка), гестапо, уголовной полиции) провели крупную акцию против «коммунистических элементов» и евреев в конце июля, в ходе которой были арестованы две тысячи человек. Из них в тот же день была расстреляна одна тысяча семьдесят пять человек. В самом Слониме к 1 августа айнзацкомандой были дополнительно ликвидированы еще восемьдесят четыре человека. Таков был «новый порядок» оккупантов, который они проводили в жизнь с первых дней войны – Барановичи были захвачены фашистскими войсками 27 июня, а Слоним – 26 июня.
2 августа фашисты устроили побоище в местечке Ивье Вилейской области. Они согнали в одно место 220 человек местных жителей, преимущественно учителей, врачей, избивали, подвергли их жестоким пыткам. А затем всех расстреляли. На опушке леса около деревни Станевичи Ивьевского района гитлеровцы уничтожили 300 человек гражданского населения, в том числе детей, подростков, женщин и стариков. В Радошковичах фашистские палачи согнали в сарай 860 человек. Заперли и подожгли. В Вилейке ежедневно десятки и сотни человек ‑ мужчин, женщин, детей, подростков выводили к тюремной стене и расстреливали. Так было истреблено фашистами около 8 000 советских граждан.
Озверевшие гитлеровцы, опьяненные кровью и вседозволенностью, убили летом 1941 года тысячи и десятки тысяч жителей республики. Ни Гитлер, ни другие «фюреры», не смогли бы убить, в одиночку, сотни тысяч человек уже в начале войны, а за время войны три миллиона человек, если бы главарей нацизма не поддерживали, самозабвенно не служили им, не исполняли их преступные приказы миллионы немцев, отравленных нацистской идеологией «миссии арийских сверхчеловеков». Они-то непосредственно и внедряли «новый порядок». Так, на одной из трофейных фотографий 1941 года, обычные солдаты и офицеры стоят за школьной доской, на которой написано: «Русский (русскими немцы называли всех советских людей) должен умереть, чтобы мы жили». Они улыбаются, предвкушая победу, мечтая о своих поместьях и миллионах рабов. Вот в этом и заключается историческая вина немецкого народа. Неправда, что солдаты и офицеры только выполняли приказы, не понимая того, что творят на захваченной земле с местным населением. Все отлично понимали и полностью поддерживали (за очень редким исключением) зверские планы Гитлера, Гиммлера, Геринга, Кейтеля, Йодля и других нацистских руководителей Германии по колонизации оккупированных земель и установления угодного им «нового порядка». Планы на бумаге были еще секретными, широко не афишировались, но конкретные поступки, дела, приказы очень хорошо и подробно демонстрировали эти планы на практике. Вот всего несколько из многих сотен примеров о первых днях пребывания гитлеровцев на белорусской земле. Немецкий солдат Эмиль Горец писал в своем дневнике: «28 июня. На рассвете мы проехали Барановичи. Город разгромлен. Но еще не все сделано. По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали с населением языком пулеметов ‑ крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущали. В каждом местечке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы». И это написал не член нацистской партии, не матерый эсэсовец, а один из солдат группы армий «Центр».
Другой бандит и убийца, в мундире обер-ефрейтора Вермахта, Иоганнес Гердер написал в своем дневнике: «25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь очень быстро перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли, таким образом, деревень десять. 29 августа в одной деревне мы схватили первых попавшихся 10 жителей и отвели на кладбище. Заставили их копать себе просторную и глубокую могилу. Славянам нет, и не может быть никакой пощады. Проклятая гуманность нам чужда».
За малейшее сопротивление, за немедленное невыполнение всех грабительских распоряжений и действий, оккупанты крайне жестоко расправлялись с людьми. В деревне Костровка Кричевского района Могилевской области группа немецких солдат, во главе с офицером, ворвалась в дом колхозницы Дригулиной, забрала все ее имущество, домашние вещи. Женщина просила оставить корову, иначе четверо маленьких детей будут обречены на голодную смерть. Гитлеровский офицер в упор застрелил Дригулину, а ее детей приказал закопать живыми. Солдаты бросили их в погреб и пытались заставить жителя этой же деревни Жмира завалить детей землей. Тот отказался это сделать. Тогда фашистские солдаты, по приказу офицера, расстреляли Жмира, а тело его привязали к забору, запретив захоронение.
Жалобы на произвол немецких солдат и офицеров германским командованием не принимались, а жалобщики наказывались смертью. Так, 15 июля, житель города Вилейки З.К. Коляда, пришел к коменданту города и пожаловался на грабеж и бесчинства, проведенные солдатами в его доме. По распоряжению коменданта Коляду тут же расстреляли за «оскорбление немецкой армии». Так населению ясно показали, кто здесь господин, а кто бессловесный раб, не имеющий никаких прав. И противиться любому произволу новоявленных господ крайне опасно для жизни.[143]
Чтобы держать население в постоянном страхе, подавить у него любое действие к сопротивлению, фашисты издали ряд приказов, которые основывались на различных инструкциях, разработанных еще до нападения на СССР. Основной смысл этих приказов и инструкций, крайне бесчеловечных и жестоких, сводился к тому, чтобы всеми средствами и мерами не допустить сопротивления населения, уничтожить любые упоминания и саму память о советском строе. Узаконенным наказанием за любые проявления неповиновения или сопротивления захватчикам была смертная казнь: за невыход на работу, за хождение по улицам в запретное время (комендантский час), за неуплату налогов, за прослушивание советских радиопередач, за несвоевременную явку на перерегистрацию, за нахождение вблизи железнодорожного полотна или в лесу.
Приказы вводились в действие немедленно и сразу за их нарушение начинались расстрелы. Строго регламентировалось передвижение населения. Для любой поездки требовалось специальное письменное разрешение оккупационных властей. За малейшее подозрение при проверке документов, во время облав или обысков, гитлеровцы расстреливали, не считаясь, кто перед ними – женщина, старик или подросток. А если находили оружие, боеприпасы, то вешали сразу же не только того, у кого нашли, а и всю его семью.
Иногда некоторые западные историки пишут о, якобы, более «гуманном» отношении руководства гражданских оккупационных властей к местному населению, и что в их распоряжениях не было или почти не было требований о смертной казни гражданских лиц. Однако факты говорят о другом. 23 августа 1941 года был издан указ имперского министра по делам оккупированных восточных областей Розенберга. Согласно этому указу, «виновные» за малейшее «нарушение оккупационных порядков, распространения враждебных немцам слухов или подстрекание к неподчинению гитлеровским указам и постановлениям», подлежали смертной казни.
С особой жестокостью оккупанты расправлялись с коммунистами, комсомольцами, советскими активистами. Гитлер заявлял: «Коммунист никогда не был и не станет нашим товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, через тридцать лет снова возникнет коммунистическая опасность». Гитлеровцы правильно видели в коммунистах и тех людях, которые разделяли их взгляды, ту организованную и идейно убежденную силу, которая с самого начала войны и оккупации сплачивала людей, возглавляла борьбу с захватчиками, поддерживала веру в нашу конечную Победу и неминуемый разгром нацистской Германии. Всегда и везде они первыми шли в бой, создавали партизанские отряды и подпольные организации, направляли борьбу местного населения с фашистами. К ним фашисты применяли самые изощренные и зверские методы пыток. Вырезали и выжигали на их спинах пятиконечные звезды, мучили жаждой, истязали, сжигали живьем.
Тысячи советских активистов погибли уже в первые месяцы войны. Ничто не останавливало захватчиков и от убийства женщин – советских работников. Так, в Витебске оккупанты расстреляли депутата Верховного Совета БССР М.А. Чернышеву, а в Бресте депутатов Верховного Совета БССР И.М. Соловей и С.Л. Борцовскую. В Полоцком районе Витебской области фашисты расстреляли члена исполкома Экиманского сельского совета Ф.А. Лапковскую. Членов компартии убивали немедленно. Были сразу же расстреляны секретарь Сестринской партийной организации Н.Т. Козлова, в Лепельском районе оккупанты схватили комсомольца С.Г. Барановского. Ему выламывали пальцы, жгли руки и ноги, рвали лицо колючей проволокой, а затем повесили. Последними словами комсомольца были «Погибаю за Родину, а вам, людоедам, на нашей земле не бывать»! В Хойникском районе Полесской области летом 1941 года гитлеровцы схватили и расстреляли около восьмидесяти человек – членов и кандидатов в члены Компартии Белоруссии. Перед войной в БССР было сто девяносто два сельских и девять городских районов. Почти в каждом районе Беларуси были арестованы и расстреляны десятки коммунистов. В первый же день оккупации Могилева гитлеровцы схватили и бросили в концлагерь секретарей Могилевского горкома партии А.И. Морозова и И.Л. Хавкина. Вскоре Хавкину удалось бежать, но его схватили и тут же расстреляли. Сумел бежать из концлагеря Морозов. Он принял активное участие в организации партизанского отряда в Брестской области. Погибли секретари Жлобинского райкома партии М.Д. Шапиро и П.М. Танков, Кировского района Гомельской области Х.А. Наймарк и Д.К. Солодкий, секретарь Меловского райкома Могилевской области В.И. Израилит и многие другие. Но, несмотря на горькие и многочисленные потери, уцелевшие коммунисты продолжали борьбу, сплачивая и организовывая вокруг себя патриотов.[144]
Фашисты с целью ликвидации биологического потенциала белорусского народа и подавления в корне сопротивления оккупационному режиму осуществили невиданное вероломство, зачисляя в разряд военнопленных мужское гражданское население. Местные комендатуры, в буквальном смысле, задерживали мужчин, в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, и под видом военнопленных направляли в специально созданные для них лагеря. Например, по распоряжению командующего 403-й охранной дивизией фон Дитфурта, подчиненные ему комендатуры, тайная полевая полиция (ГФП) и охранные отряды на территории Беларуси, под предлогом борьбы с «политически неблагонадежными» лицами, задерживали всех лиц мужского пола в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет и направляли в концлагеря, ‑ никаких судов, никаких официальных обвинений, никаких приговоров, кроме решения немецкого офицера. И это являлось целенаправленной политикой высшего руководства Третьего рейха с первых же дней войны на оккупированной территории. Уже на шестой день войны (27 июня), Гитлер своим циркуляром запретил своим оккупационным войскам заниматься судопроизводством и ставил задачу ‑ навести ужас на население любыми средствами.
Уже в июле 1941 года, когда ни о каком массовом и хорошо организованном партизанском движении, и подпольной борьбе не приходится говорить, гитлеровцы начали проводить, для осуществления вышеуказанных целей, карательные экспедиции против гражданского населения. Особо «отличился» в расправах над местными жителями полицейский полк «Центр». В июле он провел карательную операцию в Белостоке в соответствии с приказом: «Поляков и русских считать врагами немцев и действовать против них жестоко, решительно и безжалостно». В итоге восемнадцатого июля было расстреляно сто пять человек. Двадцать восьмого июля главный нацистский палач рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал провести карательную операцию «Припятские болота». Ее осуществляли 1-я кавалерийская бригада СС и 1-я моторизованная бригада СС. Гиммлер требовал уничтожить при помощи авиации на Полесье любой населенный пункт, в котором будет сопротивление карателям. Расстреливать неполноценных в расовом отношении советских людей и всех, заподозренных в поддержке партизан вывезти женщин и детей, конфисковать скот и продовольствие. Эта карательная операция проходила с 22 июля по 14 августа. По сведениям эсэсовского командования, на тринадцатое августа на территории Брестской, Минской, Пинской, Полесской областей было уничтожено 13 788 человек.
С 25 по 31 июля была проведена карательная операция – сожжено тридцать четыре населенных пункта в Беловежской пуще силами 322-го батальона из полицейского полка «Центр» и вывезены шесть тысяч шестьсот сорок шесть человек. Были и массовые казни – с 31-го июля по 19-е августа в районе Беловежской пущи. Каратели уничтожили, по неполным данным, более шестисот сорока человек. Одновременно гитлеровцы грабили население уничтоженных деревень. Они насильно забрали у жителей: 665 коней, 287 коров, 454 телят, более 2 500 свиней, до 2 000 овец, а также отняли сельхозпродукты и личные вещи. Опустевшие и ограбленные селения, каратели сожгли.
Такова была реальность первых недель и месяцев фашистской оккупации. А всего за три года оккупации фашисты провели более ста сорока карательных операций, в ходе которых уничтожили пять тысяч двести девяносто пять населенных пунктов (из них шестьсот двадцать восемь вместе со всеми жителями), а четыре тысячи четыреста шестьдесят семь населенных пунктов с частью населения. От рук карателей в Белоруссии погибли сотни тысяч человек. Это были самые страшные и невосполнимые потери белорусского народа. В результате действий карателей по уничтожению населенных пунктов, в Белоруссии без жилья осталось около трех миллионов человек.[145]
Другим важным направлением в оккупационной политике фашистских захватчиков являлось убийство советских военнопленных ‑ расстрелы, голод, непрерывные издевательства, непосильный труд и неоказание медицинской помощи раненым или больным.
Одним из первых в начале июля 1941 года на оккупированной территории Беларуси был создан лагерь для военнопленных в предместье Минска ‑ в Дроздах, куда согнали сто сорок тысяч человек. Из них сто тысяч красноармейцев и командиров и сорок тысяч человек мужского населения Минска и его окрестностей, в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет, арестованных по приказу коменданта полевой комендатуры «для обеспечения безопасности тыловых коммуникаций и для предотвращения диверсионных актов и саботажа». Оперативная команда (айнзатцгруппа) совместно с тайной полевой полицией, проводили «фильтрацию» заключенных, в целях выявления и физической ликвидации «бывших партийных работников, коммунистов, лиц еврейской национальности, уголовных элементов и азиатов». Из лагеря освобождали тех гражданских лиц, которые могли «безупречно удостоверить свою личность и не являлись уголовными или политическими преступниками». А к преступникам гитлеровцы относили комсомольцев, советских работников, государственных служащих, членов Осовиахима, и помощников советским воинам (членов истребительных батальонов, народного ополчения, сельских групп самообороны). В сообщении полиции безопасности и СД от 13-го июля говорилось, что вначале были ликвидированы выявленные тысяча тридцать евреев, остальных заключенных, кто не прошел нацистской «проверки» «ежедневно доставляли на экзекуцию», ‑ на расстрел. Всего в Дроздах в июле было уничтожено около десяти тысяч человек.
Заключенные размещались на территории, огороженной колючей проволокой, под открытым небом, в условиях чрезвычайной скученности. Медицинской помощи раненые не получали. Трупы умерших от голода и побоев не убирались по нескольку дней. Надо сказать, что в лагерь иногда пускали местных жителей – родственников пленных, которые приносили продукты, гражданскую одежду, подкупали охрану драгоценностями, что позволяло спасти жизнь, пусть немногим, заключенным.
В конце июля лагерь в Дроздах был закрыт, военнопленных распределили по другим лагерям. Гражданское население насильно отправили на восстановление железных дорог, расчистку завалов в городе, образовавшихся в результате бомбежек фашистской авиации. Из числа гражданских заключенных «Организация «Тодта» (военизированная организация нацистской Германии по строительству, производству и ремонту боевой техники), отбирала квалифицированных рабочих и формировала рабочие команды для работы на военных объектах. Основную часть еврейского населения, бывшего в лагере, отправили в городскую тюрьму и вскоре уничтожили.[146]
В армейских тылах («в оперативных районах») создавались сборные пункты военнопленных (дивизионные, корпусные, армейские) и пересыльные лагеря (дулаги), которые следовали за линией фронта. Поток пленных направлялся от фронта в тыл. Дислокация лагерей изменялась по мере продвижения группы армий «Центр». Так, по состоянию на 10 июля, армейские сборные пункты были в Березе-Картузской и Бобровниках. Там же размещались шесть дулагов. Четыре армейских сборных пункта, по состоянию на 9 августа, находились в Борисове, Слуцке, Березино. В этих же пунктах было еще десять дулагов.
Часть советских солдат, оказавшихся в тылу немцев, осела в населенных пунктах под видом гражданских лиц, часть пробиралась в родные места или к, ведущим бои, частям Красной Армии. Поэтому усилия оккупантов, в первую очередь, были направлены на ликвидацию сопротивления, оказавшихся в окружении подразделений советских войск, а также захвата мужского гражданского населения призывного возраста. За помощь красноармейцам или партизанам гитлеровцы ввели смертную казнь. В обращении командующего 3-й танковой армии генерал-полковника Рейхардта к гражданскому населению от 12 сентября отмечалось, что Вермахт не потерпит враждебных действий. С 16 сентября вводилась следующая мера: «Кто предоставит красноармейцу или партизану убежище, даст ему продовольствие или окажет другую услугу, например, предоставит сведения, будет приговорен к смерти через повешение. Это касается и женщин». Населению запрещалось принимать красноармейцев, оказывать им медицинскую помощь, кормить. Во многих случаях смертная казнь осуществлялась быстро и без какого–либо суда. Устанавливалась коллективная ответственность за неисполнение приказа. В обращении командующего тылом группы армий «Центр» военнослужащим разбитых частей Красной Армии предлагалось до 15 августа явиться для сдачи в плен в ближайшее учреждение Вермахта. «Красноармейцы, которые добровольно отдадут себя в руки германских властей, ‑ указывалось в обращении, ‑ не будут привлекаться к ответственности». Согласно распоряжению, с ними обойдутся, как с военнопленными. После указанного срока все, схваченные красноармейцы, будут рассматриваться как партизаны, и расстреляны на месте.
Это обращение массово распространялось в виде листовок в населенных пунктах. На бургомистров и сельских старост возлагалась ответственность за выдачу «отбившихся русских солдат» (для немцев слова «русский» и «советский» были синонимами). В случае неисполнения предусматривались экзекуции: «Деревня будет сожжена, бургомистр расстрелян, если при проверке будут обнаружены укрытые мужчины или будет установлено, что посторонние личности выдавались за местных жителей». Среди местных жителей находились и предатели, и трусы. Положение советских воинов, выходящих из окружения, было очень сложным, и некоторые из них, надеясь на гуманное отношение, являлись в лагеря военнопленных. Но, согласно приказу, командующего тылом группы армий «Центр», пойманные русские солдаты не помещались в лагеря военнопленных. Их следовало расстреливать на месте, как и тех, кто им помогал или укрывал.
Крайне горьким и трагичным было прозрение тех, кто или поверил фашистам в их обещаниях, или испугался неминуемых смертельных наказаний. Так в лагере военнопленных №352, созданном оккупантами недалеко от Минска, вблизи деревни Масюковщина, пленных поместили в тесные, полуразрушенные сараи без окон и дверей. В сараях грязь и вонь. Воды не было. Пленным выдавали в сутки на каждого 80‑100 грамм эрзац-хлеба, содержащего пятьдесят процентов древесных опилок, остальное – жмых, и по две кружки «баланды» из картофельных очисток и соломы. Выживали немногие. Смертность достигала 100‑150 человек в день. Военнопленных нацисты использовали на самых грязных и изнурительных работах. Малейшее промедление, при исполнении приказаний, грозило расстрелом. Издевательства были дикими и изощренными. Очевидец этих страданий рассказывал: «От непосильного труда и тяжелого режима, люди сходили с ума, бросались на проволоку, (часто она была под током), шли на «ура» в атаку, считая, что они могут таким образом уйти из лагеря. Тут же их расстреливали конвоиры». Только в этом лагере было убито и замучено восемьдесят тысяч военнопленных.[147]
Всего в Белоруссии гитлеровцы построили двести шестьдесят лагерей, их филиалов и отделений, в том числе, сто пятьдесят для военнопленных. Еще было двадцать девять лагерей, но их профиль не установлен. Кроме лагерей для военнопленных было сто десять концлагерей, для гражданского населения. Из них было семьдесят гетто, в которых погибло более шестисот тысяч евреев. Только в лагерях для военнопленных на территории республики погибло свыше восьмисот десяти тысяч человек. Исследования показывают, что лишь в тридцати, наиболее крупных концлагерях, гитлеровцы истребили на территории Белоруссии более одного миллиона советских граждан. Самым крупным, расположенным недалеко от Минска, был лагерь смерти в деревне Тростенец, в котором фашистские палачи в 1941–1944 годах уничтожили двести шесть тысяч пятьсот человек. Это был третий, по количеству убитых узников, лагерь смерти. В Освенциме нацисты уничтожили три миллиона человек, в Майданеке один миллион триста восемьдесят тысяч. Третий – Тростенец. Для сравнения: в Яновском (близ Львова) убито сто восемьдесят тысяч, в Бухенвальде ‑ пятьдесят тысяч, в Маутхаузене ‑ сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят шесть человек, в Саксенхаузене ‑ сто тысяч человек. Такого же типа, как Тростенец, концлагеря были созданы близ железнодорожной станции Бронная Гора Брестской области, в котором гитлеровцы истребили свыше пятидесяти тысяч советских граждан, в Колдычево Барановичской области, где уничтожено свыше двадцати двух тысяч человек, в Борисове гитлеровцы убили более одиннадцати тысяч человек.
Массовые убийства гражданского населения и военнопленных начались с первых дней оккупации. Так, в Витебске фашисты в первые три месяца оккупации (лето и начало осени 1941 года) создали пять лагерей смерти (для жителей города и пленных), где замучили и убили двадцать тысяч человек. Летом 1941 года в окрестностях Бреста оккупанты организовали три крупных лагеря для военнопленных на восемнадцать тысяч человек. К концу 1941 года они перестали существовать, так как здесь в живых осталось всего около восьмисот человек, которых направили в другие лагеря. Счет жертв шел на многие десятки тысяч красноармейцев, командиров и политработников Красной армии. В Шталаге 337, около железнодорожной станции Лесная, фашисты убили свыше восьмидесяти восьми тысяч пленных. В Витебске ‑ более семидесяти тысяч. В Полоцком лагере ‑ свыше ста тысяч пленных. Нацисты делали все, чтобы быстрее и масштабнее осуществить злодейский план «Ост» по ликвидации советских людей, в том числе белорусов.[148]
Важным направлением политики оккупантов было всемерная эксплуатация и грабеж захваченной белорусской земли и населения. С первых дней оккупации в широких масштабах осуществлялось экономическое ограбление захваченных войсками Вермахта районов республики. Для вывоза в Германию сырья, продовольствия и оборудования действовал широко разветвленный специальный аппарат. Оккупанты с помощью насилия, опираясь на силу оружия и страшные распоряжения, угрожая смертью за любой протест или открытое недовольство, вводили принудительный труд. Рабочий день на предприятиях не был ограничен, кроме физической возможности работающих. Земли колхозов и совхозов, все их общественное имущество захватчики объявили собственностью Германии – если учесть прошедшую в первой половине 30-х годов в БССР коллективизацию, то это охватывало почти все, кроме приусадебного участка и небольшого количества личного скота. Население облагалось непосильными поставками и многочисленными налогами. Вводилась круговая порука в деревнях за их выполнение в срок.
В западных областях Белоруссии‑Брестской, Барановичской, Пинской, Вилейской, Белостокской, где коллективизация в сельском хозяйстве к лету 1941 года только начиналась, после воссоединения в сентябре 1939 года, фашисты стали восстанавливать помещичьи, кулацкие, осаднические хозяйства. Вместе с оккупантами в данные области возвратились многие бежавшие от Советской власти после 17 сентября 1939 года помещики, владельцы заводов и фабрик, местные вожаки польских и белорусских фашистских и профашистских политических партий, и организаций, осадники, богатые крестьяне, бывшие польские чиновники и полицейские, польские, белорусские, украинские националисты, прибывшие с подконтрольных до войны территорий Третьего рейха. Весь этот антисоветский сброд активно помогал гитлеровцам в их черном деле. Они добровольно вошли в создаваемый гитлеровцами местный оккупационный аппарат, заняли должности бургомистров, войтов гмин (старост), полицаев, переводчиков и так далее и рьяно выполняли все распоряжения военных и гражданских властей немцев. Они выслуживались, выдавая карателям коммунистов, комсомольцев, бывших членов Компартии Западной Белоруссии (КПЗБ), которая действовала в 1923–1938 годах, колхозных и советских активистов, семьи командиров Красной Армии, а также «восточников»: учителей, врачей, инженеров, техников, советских и партийных работников, направленных в 1940-м – первой половине 1941 года на работу в западные области Белоруссии из восточных областей республики. Почти все выданные на расправу были в 1941–1942 годах расстреляны или брошены на медленную смерть в концлагеря.
За такие услуги гитлеровцы возвращали помещикам, кулакам, осадникам их имения и имущество, конфискованное советской властью в 1939–1941 годах. Например, у жителей деревни Пузовка Ленинского района Пинской области фашисты отобрали сто голов крупного рогатого скота и передали, возвратившемуся из Германии, помещику в качестве компенсации за конфискованный у него скот при советской власти. Подобных примеров немало и в других западных областях. Всего восстановлено оккупантами дна тысяча сто девяносто два помещичьих имения. Создавались и новые для верных прислужников оккупантов. Всего на территории западных областей Белоруссии их было вновь организовано, примерно, одна тысяча пятьсот девять имений, каждое площадью до шестидесяти гектаров: 429 ‑ в Барановичской, 121 – в Брестской, 563 ‑ в Вилейской, 306 – в Гродненской, 90 – в Пинской областях. Только в Брестской области осадникам, кулакам, войтам, старостам, для их обогащения, у сельских тружеников было отобрано свыше шестидесяти тысяч гектаров земли, полученных ими от советской власти, что составляло около одной трети земельного фонда области. И это было не только в Брестской области, а также во всех остальных западных областях. Например, в Барановичской области захватчики отняли у крестьян-бедняков, середняков сто семьдесят тысяч гектаров земли, которую получили помещики, кулаки, представители оккупационной администрации. 48,7 процента земельных угодий, изъятых у сельских тружеников, было передано под имения. По спискам «неблагонадежных элементов» составленных пособниками гитлеровцев были арестованы и расстреляны десятки тысяч местных жителей, «восточников», членов семей советского актива, командного состава Красной Армии, работников аппарата партийных, комсомольских, профсоюзных органов. Это, в дальнейшем, отрицательно сказалось на развертывании массового партизанского и подпольного движения в западных областях в начальный период войны. В июле гитлеровцы определились с местной властью. В большинстве случаев в западных областях в 1941 году оккупанты отдавали преимущество лицам польской национальности, доказавшим свою лояльность. Немцы допустили польскую верхушку к власти, оставив за собой контроль ее деятельности. Первым «президентом» города Бреста стал поляк Брониковский, вернувшийся из эмиграции, а шефом Брестского района – Рудковский. Полякам на некоторое время вернули право получать в личное пользование имения и собственность. В Брестскую область прибыли бывшие белогвардейцы, хозяева домов, имений, помещики, купцы, осадники. Хозяйственную деятельность фашисты начали здесь с организации работы спирт и пивзавода, мясокомбината, двух мельниц, которые передали в собственность их хозяев. Оккупанты восстановили лесозавод, создали несколько строительных фирм, занимавшихся ремонтом домов и их благоустройством для «новых хозяев».
Летом 1941 года в западных областях Белоруссии бывшим польским землевладельцам – помещикам и осадникам, оккупанты передали преобразованные в совхозы, имения, однако не как объекты частной собственности, а как объекты административного управления. Нередко на поляков, управляющих имениями, возлагалась обязанность сбора поставок продуктов из соседних деревень, большую часть жителей которой составляли белорусы. Таким образом, бывшие польские землевладельцы становились проводниками политики оккупационной власти, вызывая большое недовольство у белорусского населения. Использовался и такой прием разжигания вражды между белорусами и поляками, как назначение поляков старостами деревень, в которых преобладали белорусы, и наоборот. «Разделяй и властвуй» ‑ такова была политика немецких властей, которые умышленно натравливали людей друг на друга, занимая позицию «третьего радующегося», чтобы предотвратить или снизить сопротивление оккупационному режиму.
Но не надо думать, что эта политика была успешной. Имели место случаи конфликта оккупационных властей с крестьянами, у которых отбирали, полученные при советской власти, земли и инвентарь. Так, в окрестностях Лиды (Барановичская область) дело дошло до волнений крестьян и столкновений их с жандармами. В результате было расстреляно более десятка человек.[149]
Однако, все попытки оккупантов раздуть межнациональную вражду были второстепенными, побочными явлениями, наряду с генеральной линией нацистов – максимально поставить себе на службу экономический потенциал Белоруссии, в первую очередь аграрный, так как экономика республики являлась в основном сельскохозяйственной. Гитлеровцы, отнюдь, не отказывались от использования сохранившихся промышленных предприятий. Для оставшихся из них в сохранности и действующих не всегда хватало электроэнергии, необходимого сырья, квалифицированных рабочих. Так что оккупантам удавалось использовать только небольшую часть промышленного потенциала республики созданного трудом белорусского народа в годы предвоенных пятилеток. Только в 1929–1940 годах, в БССР было введено в строй и реконструировано 1863 предприятия. В годы войны на оккупированной территории Белоруссии действовало около шестидесяти относительно крупных предприятий, с количеством рабочих более тридцати на каждом. В основном это были предприятия металлообрабатывающей, местной, легкой и продовольственной промышленности, а также значительное количество мелких и ремесленных хозяйственных единиц. Предприятия, которые оккупантам удалось пустить в ход, занимались, в основном, ремонтом разбитой боевой техники, оружия, движимого железнодорожного состава. Так, на Гомельщине, гитлеровцы ремонтировали танки. В мастерских гаража Совмина (Минск) – артиллерийские орудия, на Витебском заводе имени С.М. Кирова проводили ремонт стрелкового оружия, фабрику пианино в Борисове использовали для производства колючей проволоки. Уцелевшие предприятия легкой и пищевой промышленности обслуживали Вермахт.
Набор рабочих на предприятия был насильственный, через обязательную регистрацию на бирже труда. Рабочие подвергались жестокой эксплуатации. Формально рабочий день составлял десять-двенадцать часов, но администрация имела право увеличивать его до четырнадцати-шестнадцати часов, можно было рабочих бить, за саботаж сажать в карцер, высылать в концлагеря. Позже, в условиях острой нехватки рабочей силы, фашисты в принудительном порядке стали использовать на действующих предприятиях военнопленных, проводя среди них выявление лиц, владеющих нужными специальностями. Но это не помогло оккупантам. В Минске осенью 1941 года, из трехсот тридцати двух существующих до войны предприятий, им удалось запустить только тридцать девять.
5 августа Розенберг отдал распоряжение о всеобщей трудовой повинности для всего населения в возрасте от 18 до 45 лет. За нарушение оккупанты заключали в тюрьму или ссылали на каторжные работы. Учетом и распределением трудоспособного населения по предприятиям занимались созданные оккупантами специальные органы ‑ «Биржи труда».
Чрезвычайно тяжелым было положение жителей городов. В Минске генеральным комиссариатом был введен рацион на день на каждого работающего – 200 граммов хлеба и десять граммов соли. «О выдаче мяса и жиров не может быть и речи» ‑ такова позиция оккупантов. В Бобруйске выдавали лишь по семьдесят граммов хлеба на детей. С того времени, как немцы захватили Бобруйск, население в городах не видело ни мяса, ни жиров. Потребности даже в товарах первой необходимости не удовлетворялись. Нищие пайки, крайне низкая заработная плата и высокие рыночные цены вынуждали городское население обменивать вещи на «черном» рынке, в деревнях ‑ на продукты, одежду и другую собственность. Все это было направлено на то, чтобы извлечь необходимую выгоду и, одновременно, голодом и принудительным трудом, уничтожить дееспособную часть населения оккупированной территории.
О сущности экономической политики оккупантов можно судить по требованиям Геринга к рейхскомиссарам: «Вы направлены туда для того, чтобы работать на благосостояние нашего народа. А для этого необходимо забрать все возможное. При этом мне абсолютно все равно, если вы мне скажете, что люди оккупированных областей умирают с голоду. Пусть умирают, лишь бы только были живы немцы. Я сделаю все – я заставлю выполнить поставки, которые на вас возложены, и, если вы этого не сможете сделать, тогда я поставлю на ноги наши органы, которые при любых обстоятельствах вытрясут эти поставки». Это требование «наци номер два» ясно указывает на тесную взаимосвязь экономической политики нацистов с действиями карательных служб и частей Вермахта с целью максимального ограбления местного населения.
Нацисты делали большую ставку на получение из Белоруссии значительного количества сельхозпродуктов, как для Вермахта, так и для населения Германии. Гитлер рассчитывал, что получит из Беларуси более трех миллионов пудов хлеба. В соответствии с установкой оккупационных властей, генеральный округ Белоруссия должен был поставить только для Вермахта из урожая 1941 года, в порядке первого взноса, сто сорок тысяч тонн зерна, сто пятьдесят тысяч тонн картофеля, сто девяносто пять тысяч тонн сена, двести две тысячи тонн соломы. В дальнейшем, при доведении норм сдачи продуктами сельского хозяйства, гитлеровцы исходили из того, что каждый район, в среднем, должен был сдать, примерно, сорок пять тысяч центнеров хлеба. Доводили до каждого, используемого крестьянским хозяйством, двора сдать сто килограммов свинины, три-четыре центнера зерна с каждого гектара, триста пятьдесят литров молока с каждой коровы, тридцать пять яиц с каждой курицы, шесть килограмм птицы со двора, полтора килограмма шерсти с каждой овцы.
Вводились большие налоги. Например, население Полоцка платило подушный налог сто рублей в год с каждого человека в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, на ремесленников – двадцать пять процентов дохода. Граждане должны были платить налог на содержание старост в деревнях, бургомистров и управ в городах. Был введен налог на окна. Ограблению населения содействовала и денежно-кредитная политика фашистов. Интересно, что на оккупированной советской территории существовала система двух валют: советской и оккупационной. За советским рублем германские власти оставили функцию платежного и покупательского средства. Курс рейхсмарки был крайне завышен, – десять рублей за одну марку, почти в пять раз выше по сравнению с довоенным. Такой обменный курс являлся грабительским, так как он не отвечал официальным советским ценам в рублях, действовавшим до 22 июня, и, фактически, обесценивал деньги, имевшиеся на руках у населения. С целью поддержания высокого курса марки немецкие хозяйственные банки, созданные на месте контор и отделений Госбанка СССР, скупали у населения большие суммы советской валюты, а после использовали ее на оккупированной территории для финансирования своих расходов, осуществляя таким образом «легальный» грабеж.
Оккупационные власти разрешили мелкое частное предпринимательство, частную практику медицинским и некоторым другим работникам, владение ремесленными мастерскими, магазинами. Тем же, кто будет активно поддерживать «новый порядок», обещали право на недвижимость, собственность, землю. Однако на практике все было реализовано в довольно ограниченных размерах.
В преступных планах нацистов по экономическому ограблению оккупированных территорий, Белоруссия рассматривалась, как один из важнейших источников снабжения сельскохозяйственной продукцией группы армий «Центр» и рейха. Кроме этого, их интересовали и такие важные для угольной, строительной и спиртовой промышленности материалы, как крепежный лес, древесина, пиломатериалы, стройматериалы и торф. За 1941 ‑ начало 1942 года в Белоруссии было заготовлено один и семь десятых миллионов кубических метров древесины, а в 1942 году планировали получить уже три с половиной миллиона кубометров. Белорусская древесина использовалась в немецком самолетостроении, шла на экспорт из Германии в другие страны. Большое значение придавалось белорусским торфяным ресурсам. Это сырье использовалось немцами и в качестве топлива, и в смесях для удобрения полей, и как подстилка для скота. Оккупанты планировали получить в год 790 – 800 тысяч тонн этого ценного сырья. Для заготовки торфа оккупанты использовали местное население и военнопленных. О главных задачах захватчиков в экономической деятельности в Белоруссии говорил Вильгельм Кубе (генеральный комиссар Белоруссии) на совещании областных гауляйтеров: «Мы прибыли в страну, с общей директивой управлять этой страной и поставить ее экономику на службу войне, которую Германия ведет на востоке, извлечь из этой страны все, что можно извлечь из ее экономической мощи». И нацисты старались.
К февралю 1942 года на территории генерального округа «Белоруссия» хозяйственными органами захватчиков было награблено и передано Вермахту и рейху почти сто тридцать тысяч голов крупного рогатого скота, более пятидесяти тысяч овец, свыше семнадцати тысяч свиней, до восьми тысяч трехсот телят. В эти цифры не входит, не поддающееся учету, огромное количество народного добра, разграбленного проходящими частями Вермахта, а также захваченное в ходе карательных операций.
В реализации планов экономической эксплуатации национального богатства республики важное место занимала аграрная политика захватчиков. В начале (лето 1941 года – зима 1942 года) в восточных областях Белоруссии оккупанты попробовали сохранить колхозную систему с ее атрибутами, чтобы легче было обирать крестьян, оставив ее форму, но, в принципе, изменив ее содержание. В документах рейха в то время неоднократно подчеркивалась необходимость сохранить колхозы и не проводить раздела земли. Были даже оставлены должности председателей, бригадиров, официально не распускали правления, ревизионные комиссии и так далее. Вместе с тем, весь колхозный инвентарь и скот были объявлены собственностью Германии. Германская администрация оповестила о переустройстве колхозов под названием «общинные хозяйства» или «общие дворы», а совхозов – в государственные имения. Но до февраля 1942 года аграрные предприятия назывались по-прежнему колхозами и совхозами. Некоторое время немцы запрещали раздел колхозной земли, скота и инвентаря между крестьянами. Крестьяне, под угрозой расстрела, обязывались вернуть всю колхозную собственность и зерно, которые они спрятали. Немецкое командование объявило о сохранении «колхозной системы» под их контролем.
В западных областях Белоруссии, созданные в 1939–1941 годах немногочисленные колхозы с началом оккупации сразу же распались, и крестьяне снова вернулись к индивидуальным хозяйствам. Проводилась фашистами политика создания или возвращения имений.
О действительных целях в отношении крестьян, в том числе и в Белоруссии, на оккупированных территориях нацистский министр земледелия Дарре цинично заявил: «Земля, завоеванных нами стран, будет разделена между солдатами, которые особенно отличились, и между лучшими членами национал-социалистической партии. Таким образом, возникнет новая земельная аристократия. У данной аристократии будут свои крепостные – местные жители… На всех восточных территориях только немцы имеют право являться собственниками крупных имений. Страна, которая населена другой расой, должна стать страной рабов, сельскохозяйственных батраков и промышленных рабочих». Вот что реально готовили нацисты сельскому и городскому населению нашей страны, и против чего в тяжелых, кровопролитных боях, сражались воины Красной Армии, партизаны, подпольщики, патриоты.
Самое активное участие в эксплуатации и разграблении национальных богатств белорусского народа принимали германские монополии. На территории Белоруссии действовали разного рода оккупационные общества и фирмы: «Восток-волокно», «Шлахтихоф», «Троль», «Требец», «Дойчеторфгезельшафт», «Ост-нефть», «Эбель и К», «Центральное торговое общество «Восток» по заготовке и сбыту сельхозпродукции» и другие – всего семнадцать компаний. Для грабежа лесных богатств было образовано монополистическое объединение, куда входили фирма «Западноевропейское объединение лесного хозяйства» и «Общество балансовой древесины». Для реализации намеченной программы в областях военного подчинения под руководством штаба «Восток», гитлеровцы создали военно-хозяйственные инспекции, команды и группы при штабах командующих тылами групп армий, охранных дивизий при полевых комендатурах, в генеральных округах. Политика экономической эксплуатации проводилась специальными отделами при органах гражданской администрации или хозяйственными инспекциями. Грабеж на местах осуществлялся специальными уполномоченными по сельскому хозяйству, промышленности и использованию рабочей силы.
Фашисты прибирали к рукам все, что попадалось на пути. Награбленное продовольствие, произведения искусства, захваченные запасы складов (невоенного характера), имущество, отнятое у населения, потекло в Германию в виде солдатских и офицерских посылок с фронта. Солдаты забирали из домов ткани, обувь, одежду, продукты питания. Так, в Светиловичском районе (Гомельская область) в деревню Столбцы в августе 1941 года явились оккупанты с обозом более двухсот пустых подвод и сразу начали загружать их овсом, ячменем, рожью. Затем перестреляли и погрузили на подводы свиней, уток, кур и гусей. Солдаты забирали из домов ткани, обувь, одежду, продукты питания. Фашисты разграбили и уничтожили Государственную картинную галерею, вывезли картины и скульптуры белорусских и русских мастеров. Недаром белорусский народ называл гитлеровских вояк «грабь-армия».[150]
Оккупанты, наряду с массовым террором и повсеместным ограблением населения, старались развернуть среди миллионов людей, проживающих на захваченной ими белорусской земле, и идеологическую работу, чтобы даже не было мысли о сопротивлении. К этой работе фашисты готовились заранее, хорошо понимая силу идей социальной справедливости, национальной независимости, необходимости борьбы с нацистским вооруженным агрессором. В основе лежали идеи антикоммунизма и антисоветизма, разжигание национальной розни и частнособственнических инстинктов, выпячивание ошибок и недостатков сталинской модели социализма, массовых репрессий народа периодов коллективизации и 1937–1938 годов, преследований церкви и священнослужителей. В начале июня 1941 года (еще до войны) верховным командованием Вермахта была подготовлена директива по использованию пропаганды в плане «Барбаросса». Вместе с инструкцией по пропаганде против Красной Армии, советских военнослужащих, она включала различные пропагандистские мероприятия среди местного гражданского населения. В основе пропаганды гитлеровцев был геббельсовский лозунг, что нацистский Вермахт идет «освобождать население Советского Союза от «тирании Советов и коммунистов». В директиве лживо утверждалось, что противниками Германии являются лишь Советское правительство, компартия и комиссары. Вместе с тем, от пропагандистского аппарата требовалось, на первых порах, тщательно скрывать от населения человеконенавистнические цели войны. Ни предусмотренный раздел Советского Союза, ни ликвидация советских форм экономического хозяйствования, ни, тем более, последующее уничтожение десятков миллионов советских людей, включая белорусов, в пропагандистских материалах не должны были упоминаться. Оценивая, с нацистских позиций, отношение населения к советскому строю и советскому государству, оккупанты надеялись, как минимум, подтолкнуть часть людей к отказу от идей социальной справедливости, свободы и равенства, в итоге – к пассивному принятию устанавливаемого «нового порядка». Гитлеровцы, уже с самого начала, предвидели сопротивление народа их режиму расстрелов, виселиц, концлагерей, дикой эксплуатации и грабежа. Однако нацисты просчитались относительно характера и размаха этого сопротивления, и якобы неизбежности краха в народе социалистических идей. Они считали, что для подавления борьбы наиболее активной и сознательной части белорусского народа достаточно будет применения многочисленных полицейских сил, эсэсовских частей и имеющихся охранных дивизий Вермахта. Гитлер выразил господствовавшее в среде нацистов мнение, относительно силы сопротивления советского многонационального народа и руководящих им идей, когда на совещании с руководящей верхушкой Вермахта 17 марта 1941 года заявил: «Мировоззренческие узы еще недостаточно сплачивают русский народ (слова «советский народ» он принципиально не говорил). После устранения функционеров он будет расколот». В этом расколе гитлеровцы главенствующую роль отводили воинствующему национализму. Основными тезисами пропаганды нацистов на оккупированной территории в 1941 году были: непобедимость Вермахта, разгром всех частей Красной Армии, бесперспективность любой борьбы с оккупантами, ставка на апатию, страх, эгоизм большинства людей, их желание выжить любой ценой при любых условиях, и что во всех бедах белорусского народа виноваты евреи и коммунисты.
Начинали нацисты свою пропагандистскую, идеологическую работу среди населения западного региона Белоруссии – Брестской области и города Бреста, учитывая, что советская власть здесь установилась менее двух лет назад – в сентябре 1939 года, а социальные и экономические преобразования, в интересах трудящихся, только начали набирать силу и масштабность. Учитывался и многонациональный характер населения. В первую очередь, фашисты наладили средства массовой пропаганды и информации. Радиоцентр оккупантов в Бресте восстановили быстро. На всех площадях были установлены громкоговорители. Передачи велись на русском, белорусском, украинском, польском и немецком языках, обрушивая на людей ежедневные потоки лжи и клеветы. Начали издаваться газеты: «Новое слово», вскоре она была переименована в «Наше слово» и печаталась на украинском языке, и «Курьер Варшавский» на польском языке. С целью разобщения населения по национальному признаку, оккупационный режим создал русский, украинский, польский и белорусский комитеты. Одновременно с оккупантами в Брест прибыли украинские националисты. Они сразу организовали украинский комитет, который работал под руководством гебитскомиссара.
Культурная жизнь в Бресте была нарушена. Парки были превращены в немецкие кладбища. Областной театр и кинотеатр «1-е Мая» обслуживали только немцев. Кинотеатр имени М.Горького не работал. Жителям разрешали посещать только кинотеатр «КИМ», где демонстрировались немецкая военная хроника и немецкие фильмы. Книжный фонд был частично сожжен (сжигали «неугодные книги»), а частично растащен.
Уже с начала захвата западных областей Белоруссии, фашисты развернули компанию по «восстановлению польскости». Разрешалось обучение в школах на польском языке. Улицам вернули прежние, досоветские названия. Полякам отдавалось преимущество при назначении на должности в территориальной администрации. В документах ЦК Компартии Белоруссии сообщается об антисоветских действиях некоторых поляков. В Западной Белоруссии во время отступления из районов проживания польского населения были часто случаи обстрела отходивших частей Красной Армии и эвакуировавшихся работников советских органов власти. Такие факты имели место в Бресте, Барановичах, Гродно, Пинске. По отступающим бойцам часто стреляли из лесов. Предатели и изменники советской Родины, отдельные поляки, указывали немцам места проживания советских и партийных работников, «восточников», а также евреев, то есть тех людей, которые в первую очередь подвергались аресту, грабежу и расстрелам. Сведением личных счетов за события 1939–1941 годов являлись случаи самосуда и доносов поляков на белорусов, особенно занимавших ответственные посты. Белорусов обвиняли в коммунистических симпатиях, и это обвинение означало смертный приговор. Следует отметить, что доносы писали и белорусы на поляков, которых в основном, обвиняли в злоупотреблении служебным положением.
Бывшим польским собственникам оккупанты в 1941 году возвращали национализированные при советской власти дома. В результате проводимой фашистами политики в 1941 году в Западной Белоруссии в руках поляков оказались местная администрация, вспомогательная полиция, лесничества, железная дорога, почта и строительные организации «Тодта». Нередко злоупотребляли своим положением и поляки, служившие в полиции, по отношению к тем, кто не разговаривал на польском языке, иногда самовольно подвергая этих людей аресту. Такая обстановка вызывала у местного, непольского населения, недовольство, которое выражалось в возраставшем саботаже мероприятий гитлеровских властей, так как люди понимали в своей массе, что только с разрешения и поддержки оккупационных властей могли происходить такие события.
Гитлеровцы стремились вызвать конфликты не только белорусов с поляками, но и с украинцами, которые проживали в ряде районов Западной Белоруссии. Здесь их добровольными помощниками являлись украинские националисты – «бандеровцы», «мельниковцы», «бульбовцы». На территории Брестской и Пинской областей украинские националисты всячески разжигали вражду украинцев против поляков, а также всячески стремились выжить их из оккупационных учреждений. Для этого они использовали преимущественное положение поляков по отношению к украинцам.
В восточных областях Белоруссии (Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской), в связи с передачей этих регионов под управление гражданской власти во главе с Альфредом Розенбергом (главой рейхскомиссариата «Остланд», с центром в Риге), немецкая администрация сделала политическую ставку на этнические меньшинства бывшей Польши. И, выполняя инструкции Розенберга, развернула антипольскую компанию. В генеральном округе Белоруссия оккупанты в своей деятельности опирались на белорусские элементы из числа националистов, раскулаченных, бывших нэпманов, белогвардейцев, уголовников, а также на тех, кто якобы пострадал от советской власти, и добровольно пошел на службу в местную полицию, принимая участие в арестах и расстрелах советских патриотов, помогал в грабеже местного населения.
Нацисты рассчитывали натравить друг на друга разные национальные группы населения, давая некоторые преимущества тем или иным лояльным к ним элементам. Пока поляки, белорусы, украинцы и другие бьют друг друга, видя в человеке другой национальности своего якобы врага или конкурента, оккупанты могли, по их замыслам, беспрепятственно проводить массовый террор, дикую эксплуатацию и повсеместный грабеж. Однако планы захватчиков были сорваны мужественной борьбой первых партизан и подпольщиков разных национальностей против действительного и смертельного врага всех народов – немецко-фашистских оккупантов и их прислужников.
Полностью провалилась попытка гитлеровцев натравить белорусский народ на евреев, развязать антисемитскую истерию, обвинив евреев во всех бедах и несчастьях. Фашистские пропагандисты приводили данные о еврейском засилье в партийном и государственном аппарате в БССР (30‑40% в 20-е годы и 70‑80% в предвоенный период), или выпускали плакаты с фамилиями членов партийных комитетов и исполкомов Советов народных депутатов в том или ином городе или районе. Уже 4 августа в оперативной сводке полиции безопасности и СД в Берлин говорится с явным сожалением: «Национальное самосознание на этой территории (Белоруссии) едва ли сохранилось. Как в Минске, так и в бывших польских областях, не наблюдается ярко выраженного антисемитизма». Дело, понятно, не в национальном самосознании белорусов и представителей других национальностей – оно было достаточным и правильным, а в провале гитлеровских планов отравления сознания людей ядом национализма. Нацистам пришлось признать тот печальный для них факт что: «Инициировать погромы против евреев до сих пор, в связи с пассивностью и политической тупостью белорусов, оказалось невозможным». Политическую тупость здесь проявила сама СД – не признавать же ей, что идеология советского интернационализма оказалась сильнее германского национализма! А «пассивность» белорусов оккупанты очень быстро познали на своей шкуре от партизан и подпольщиков. И для проведения «Холокоста» на территории Белоруссии нацистам пришлось самим, вместе с подручными, уничтожать еврейское население, прячась за ширму «народного гнева». Так в Минске, в районе улицы Опанского, захватчиками был создан специальный еврейский лагерь – гетто. На сравнительно небольшой территории фашисты собрали около ста тысяч евреев. Естественно скученность, грязь, голод. Погромы следовали один за другим. Их осуществляли айнзатцгруппы и зодеркоманды немцев. К 1 августа в гетто уже оставалось около восьмидесяти пяти тысяч человек. К лету 1942 года гитлеровцы уничтожили почти всех евреев.
Не надо считать, что многие тысячи евреев безропотно шли на смерть. Им активно помогали в побегах из гетто и в борьбе с оккупантами советские патриоты из местных жителей. Так подпольщики Минска вывезли из города более пятисот евреев и направили их в партизанские отряды и группы. В целом из Минского гетто в годы оккупации бежало в леса более десяти тысяч человек. Евреи, бежавшие из гетто, эшелонов и лагерей смерти стали участниками партизанского движения и подполья. Из них было образовано семь отрядов. Шесть слились с белорусскими партизанами, а седьмой преобразован в семейный лагерь, насчитывавший около шестисот мужчин, женщин, детей. Семейный лагерь имел свою боевую группу, которая принимала участие в боевых действиях против гитлеровцев. Всего в Белоруссии и на Волыни (южные районы Белоруссии, входившие в состав рейхскомиссариата «Украина») было, по имеющимся данным, около пятнадцати тысяч партизан-евреев, из которых домой вернулось не более пяти тысяч. Остальные погибли в неравных боях с карателями – не хватало оружия, боеприпасов, недостаточной была военная подготовка.[151]
Таким образом, ставка гитлеровцев в насаждении «нового порядка» в Белоруссии, на национализм, на разобщение людей разных национальностей, переключение внимания на борьбу между собой, вместо борьбы против захватчиков, оказалась битой. Например, только в обороне Брестской крепости приняли участие представители тридцати национальностей Советского Союза, сражавшихся с фашистами насмерть.
Командование Вермахта стремилось максимально ослабить Красную Армию, надеясь на полный распад советских войск. С этой целью, в самом начале войны, немцы не брали всех красноармейцев в плен. Их обезоруживали и отпускали. Некоторые бойцы уходили в леса, оседали в деревнях, отправлялись к линии фронта, для соединения с Красной Армией. Отдельные добровольно бросали оружие и боевую технику и прекращали борьбу, но таких было немного. Но вскоре, убедившись в усилении сопротивления Красной Армии Вермахту, фашисты стали преследовать советских воинов.
Летом – осенью 1941 года часто отмечались случаи, когда женщины из ближайших населенных пунктов, забирали из лагерей наших солдат, выдавая их за своих братьев, отцов, мужей. Они предлагали охране самогон, продукты, золотые изделия, а немецкие офицеры не очень этому препятствовали. Гитлеровцы считали, что «все равно война выиграна, Красная Армия разбита, остатки войск скоро добьем! Зачем зря кормить будущих рабов, их труд нам еще пригодится».
Особо рьяно оккупанты уничтожали советскую интеллигенцию, так как хорошо понимали, что человек образованный, культурный, много знающий и умеющий, выходец, в большинстве случаев, из крестьян и рабочих никогда не станет рабом, а будет бороться с захватчиками в любых условиях. Идеологи нацизма заявляли относительно советской интеллигенции: «Мы должны вырвать их мозг. Мы должны уничтожить культурные слои». Гитлеровцы не без причин видели опасность для существования оккупационного режима со стороны местной интеллигенции. Поэтому еще тридцатого марта 1941 года Гитлер потребовал физического уничтожения «большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции». Кроме того, он подчеркивал, что на тех территориях, которые будут оккупированы, не должно быть «никакой отдельной интеллигенции и нельзя допустить, чтобы образовалась какая либо новая интеллигенция». Фюрер четко указал цель: «Интеллигенцию, которую создал Сталин, требуется уничтожить».
И Вермахт, гражданские чиновники оккупационного режима и различные карательные подразделения приняли этот приказ и усердно его осуществляли. Так, в Полоцке были расстреляны двести представителей местной интеллигенции, большинство из которых были учителя. В Кормянском районе (Гомельская область) летом 1941 года был расстрелян популярный среди населения сельский преподаватель М.Н. Слепцов, в Червенском районе (Минская область) повешен учитель С.Я. Химкович. Не забывали гитлеровцы и западные районы Белоруссии: в Скидельском районе (Белостокская область) гитлеровцы убили пятьдесят преподавателей; в городе Барановичи – шестьдесят восемь педагогов, а по всей области – 411 человек. Не всегда представителей местной интеллигенции расстреливали или вешали, их, нередко, отправляли на каторжные работы в Германию. Свыше трехсот педагогов нацисты силой вывезли из Брестской области в рейх. После этого в школах края осталось всего не более тридцати пяти процентов учителей. Почему именно на преподавателей оккупанты особо охотились? Во-первых, они могли оказывать патриотическое влияние на подрастающее поколение. Во-вторых, – преподаватели составляли значительную часть местной интеллигенции. В-третьих, – они часто являлись инициаторами и организаторами подпольных и партизанских групп, вели разъяснительную работу среди населения, которое знало и уважало их.[152]
Однако реально проводить в жизнь «новый порядок» ‑ порядок массовых убийств, повсеместного грабежа и осуществления на земле Белоруссии плана «Ост», нацисты могли только, опираясь на военно-полицейские силы, держа контроль над девятью миллионами жителей республики. В начале войны фашистское руководство считало, что для этого вполне хватит четырех охранных дивизий группы армий «Центр», некоторых войск СС (одна кавалерийская и одна моторизованная бригады), а также подразделений полицейских сил – ГФП, СД, Абвера, жандармерии, вспомогательной местной полиции. Но, встречая, все усиливающееся сопротивление местного населения, удары партизанских отрядов, действия подпольных групп, которые вместе замедляли и срывали планы гитлеровского руководства, оккупанты вынуждены были перебрасывать в Белоруссию (уже летом-осенью 1941 года) дополнительные силы. Сначала число охранных дивизий увеличили до пяти, а затем и до шести.
В основу военно-оккупационных сил была положена система немецких гарнизонов. В 1941 году их насчитывалось несколько сотен разной численности – от взвода до нескольких тысяч солдат и офицеров. Например, минский гарнизон насчитывал до пяти тысяч человек, не считая армейских резервов, штабов, подразделений полиции, жандармерии и других фашистских карательных органов. В Гомеле гитлеровцы держали гарнизон в восемь-десять тысяч военнослужащих, а на территории Гомельской области располагались основные силы 221-й охранной дивизии.
Тайная полевая жандармерия развернула в 1941 году пять основных и десять периферийных команд, которые, как правило, располагались в районных центрах, в области тыла группы армий «Центр». В центральных и западных оккупированных районах республики расположились подразделения жандармерии. Как докладывал «комендант Белоруссии» командир 707-й пехотной дивизии, в интересах тесного сотрудничества Вермахта и полиции созданы учреждения жандармерии в Минске, Слуцке, Барановичах и Слониме. В каждом таком «учреждении» жандармерии был взвод в составе от 34 до 99 человек. Кроме того, на территории Белоруссии действовало свыше десяти немецких полицейских моторизованных формирований, каждое из которых количественно превышало полк.
В конце лета 1941 года гитлеровцы создали из изменников, несколько вооруженных фашистско-националистических, так называемых, «украинских» формирований и литовский националистический батальон, которые оставили кровавый след на белорусской земле. Только один батальон фашистских убийц, под командованием палача и садиста Импулявичуса, летом-осенью 1941 года расстрелял свыше сорока тысяч и повесил более десяти тысяч советских людей. Оккупанты стремились кровью тысяч жителей отравить отношения белорусов с украинцами и литовцами. Однако предатели и убийцы могут быть у любого народа, и не по ним следует судить в целом о народе. После войны тех из них, кто не успел сбежать на Запад, разыскали и судили – они получили заслуженную и справедливую кару за преступления на земле Белоруссии.[153]
Такова была реальность «нового порядка» фашистских оккупантов, при помощи которой, они хотели осуществить в Белоруссии и с белорусами зловещий план нацистов «Ост».
Надо помнить, что это была государственная политика нацистской Германии и проводилась в жизнь любыми насильственными мерами. В итоге только во второй половине 1941 года от боевых действий, карательных мероприятий, голода, холода, болезней, массовых казней погибло, по имеющимся данным, свыше четырехсот тысяч жителей Белоруссии, разрушены десятки городов и сожжены сотни деревень.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
ЗАРНИЦЫ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ.
Нацистская военная агрессия против СССР, с целью всестороннего разгрома Советского Союза, его Красной Армии, порабощения и уничтожения его населения, включая белорусов, всесторонней эксплуатации и грабежа, не могли не вызвать нарастающую волну сопротивления на оккупированной территории Республики. Зверский человеконенавистнический «новый порядок» оккупантов, пытающихся осуществить страшный план «Ост», значительно усиливал это сопротивление. Убит или замучен насмерть мог быть любой человек, попытавшийся дать отпор оккупантам.
Большую роль в борьбе с гитлеровцами играла приверженность многих, особенно молодежи, идеям социальной справедливости, трудовому и национальному равенству, отождествления своей судьбы и судьбы СССР, неприятие господства иностранных захватчиков. Так было, несмотря на все ошибки и недостатки строящейся сталинской модели социализма, насильственную коллективизацию, массовые репрессии 1937–1938 годов, невысокий жизненный уровень большинства населения. Тем более что в предвоенные годы жизнь и в городе, и на селе постепенно улучшалась, пусть медленно, но повышалось материальное благополучие, пусть частично и непоследовательно, но исправлялись допущенные ошибки и недостатки, все более значимым и широким становились образование, здравоохранение, культура. В это верили, за это боролись, ради этого трудились основные массы людей. И все это, всю налаженную жизнь миллионов людей Белоруссии старался уничтожить сильный и смертельно опасный враг. Население не знало тайных планов нацистов, зато хорошо видело, понимало и учитывало всю реальную деятельность частей Вермахта, полицейских подразделений, оккупационной администрации и, как можно, сопротивлялось угрозе полного порабощения и биологического уничтожения.
Борьба с фашистскими оккупантами, уже с первых недель и месяцев, не была стихийной. Ее организовывали и направляли летом 1941 года две силы. Во-первых, уцелевшие в смертельном урагане нацистских массовых репрессий, расстрелов, виселиц, концлагерей (в западной части республики, только осенью 1939 года вошедшей в состав БССР), местные коммунисты, комсомольцы, советские активисты, бывшие члены Компартии Западной Беларуси (КПЗБ). В восточной части республики – действующие партийные и комсомольские органы – ЦК Компартии Белоруссии, обкомы, горкомы, райкомы партии и комсомола. Во – вторых, военнослужащие Красной Армии – красноармейцы, командиры, политработники частей советских войск, попавших в окружения – «окруженцы», бежавшие или вырученные из плена. Объединение этих двух сил придавало особую силу и жизнестойкость в организации сопротивления оккупантам, как в западных, так и в восточных районах Белоруссии.
Надо учитывать, что на 22 июня 1941 года, двадцать шесть советских дивизий 10-й, 3-й, 4-й армий и шесть механизированных корпусов были развернуты, к сожалению, не в боевые порядки (в районах Белостока, Бреста, Гродно, Кобрина) в качестве первого эшелона, а это более половины дивизий Западного Особого военного округа (ЗапОВО).
Личный состав частей Красной Армии в ЗапОВО насчитывал более шестисот семидесяти трех тысяч человек. Во втором эшелоне войск ЗапОВО, в центральной части республики, были развернуты остальные дивизии округа. Кроме того, в начале июля в южные и северные районы Белоруссии стали прибывать дивизии 16-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й армий советских войск, которые (после поражения частей Красной Армии в пограничном сражении и битве за Минск), должны были воссоздать Западный фронт. Тяжелые кровопролитные бои шли в июле-августе в районах Могилева, Гомеля, Витебска, Полоцка, Полесья. К сентябрю советские войска, под ударами Вермахта, были вынуждены оставить территорию всей республики. Здесь часть воинов Красной Армии тоже оказались в окружении, попадали в плен и бежали из него. Среди военнослужащих, избежавших гитлеровского плена, которых были тысячи и на западе и на востоке республики, одни были комсомольцами, часть коммунистами, множество было беспартийными. Одни, собравшись в группы, уходили к удаляющемуся на восток фронту, желая снова встать в ряды советских воинов, упорно сражавшихся с дивизиями Вермахта; другие – оседали в населенных пунктах, стараясь не привлекать к себе пристального внимания, пытались сориентироваться в новой и опасной обстановке; третьи ‑ решили бороться с врагом и создавали, вместе с местными жителями, партизанские и подпольные группы, наносили, как могли и чем могли, урон живой силе гитлеровцев, били по транспортным коммуникациям, железнодорожной и авто технике, различным складам, уничтожали или наносили вред боевой технике противника, освобождали пленных и арестованных людей. К сожалению, никакого партизанского или подпольного опыта борьбы у них не было, поэтому часто несли значительные потери, как от военных и полицейских сил оккупантов, так и от карательных органов и спецслужб Третьего рейха, имевших опыт подавления сопротивления в оккупированных Германией странах, с национальной или коммунистической направленностью.
Во многом, помогла объединенным силам местного актива и воинов Красной Армии, оказавшихся на захваченной фашистами территории (особенно на востоке Белоруссии), поддержка и помощь из-за линии фронта, с еще защищавшихся белорусских земель. К ним прямо относятся организация и заброска в оккупированные районы небольших по численности, но многочисленных партизанских отрядов и групп; первые шаги в обеспечении народных мстителей оружием, боеприпасами, минами, взрывчаткой, создание подпольных организаций, различных партизанских школ и их филиалов в советском тылу для подготовки будущих партизан и подпольщиков при активном участии представителей Красной Армии. Может встать вопрос, а почему девяносто процентов забросок шло в восточные районы, и только десять процентов в западные? Здесь несколько причин: первая – близость фронта и возможность поддерживать пешую связь, вторая – полное отсутствие радиосвязи с силами сопротивления в западных районах и единичные случаи дальней нашей связи, недостаточное знание местных реалий, и местных жителей. Абсолютно не было времени на организацию подпольных или партизанских групп, а те сети агентуры, которые имели НКВД и НКГБ были, в силу разных причин, полностью провалены и уничтожены фашистами. Об этих причинах – растерянности, паники, глупости, а в некоторых случаях и предательства будет еще сказано. Ошибочным является мнение некоторых людей и западных исследователей, что подпольная борьба и партизанское движение были привнесены в Белоруссию из-за фронта. Да, это была поддержка, помогавшая усилить и лучше организовать сопротивление. При этом надо знать, что забрасываемые группы, отряды, подпольные организации несли большие потери, вплоть до полной гибели. Однако, несмотря на тяжелые условия, созданные против них оккупантами, отступление Красной Армии, постепенную оккупацию всей территории республики гитлеровскими войсками, на установление жесточайшего оккупационного режима, на нехватку всего, что требовалось для успешных действий, начавшаяся с первых дней войны справедливая и оборонительная борьба партизан и подпольщиков – защитников белорусского, народа нарастала и усиливалась. Те партизанские отряды и группы, подпольные патриотические организации, которые выстояли в условиях фашистских репрессий, приобрели опыт в борьбе с оккупантами. Они прочно взаимодействовали с местным населением, за счет трофеев, от разгрома подразделений фашистов, усилили свою боеспособность, постоянно увеличивали свои ряды и наносили врагу серьезные удары. В результате уже к концу 1943 года до шестидесяти процентов территории Белоруссии было освобождено от гитлеровцев. Партизаны и подпольщики уничтожили и вывели из строя до пятисот тысяч солдат и офицеров оккупантов, их союзников и приспешников, помогли, в ходе проведения операции «Багратион» (к концу августа 1944 года) полностью освободить республику и ее население от фашистов. В рядах партизан в 1941–1944 годах сражались 374 тысячи человек, в подполье – до семидесяти тысяч, которые в своей борьбе опирались на четыреста тысяч человек невооруженного резерва. Воевал с захватчиками весь народ, за редким исключением, потому и победили. История любит аллегории: Знамя Победы над рейхстагом подняли совместно русский М.А. Егоров, сын раскулаченного, сражавшийся в 1943–1944 годах в рядах партизан Белоруссии, и грузин М.В. Кантария, сын убитого кулаками председателя колхоза ‑ оба комсомольцы и добровольцы.
В Белоруссии изданы десятки мемуаров и воспоминаний партизан и подпольщиков, опубликованы сотни статей об их героической борьбе, есть отдельные разделы в учебниках, сняты кино и телефильмы, кажется, что все и обо всех хорошо известно. Однако это, в основном, касается периода 1942–1944 годов. О начале борьбы летом 1941 года известно значительно меньше, все сводится к нескольким фактам и именам, которые кочуют из книги в книгу. Многие из тех, кто начинал борьбу с оккупантами, погибли в 1942–1944 годах в боях с многочисленными карательными экспедициями. Другие, кто уцелел, не дожили из-за ран и болезней до 60-х – 80-х годов, когда начала издаваться мемуарная литература, да и те, кто их писал, далеко не всегда упоминали о первых шагах, зарождающегося партизанского и подпольного движения, а рассказывали, в основном, о себе и о тех, кто был с ними рядом в это огненное время. Сказывалось и то, что до девяностых годов на страже того, какой должна была быть история борьбы стояла бдительная цензура. Поэтому мы, при написании данной главы, сосредоточились на малоизвестных фактах и фамилиях людей, стоявших у истоков народной борьбы.
Дело не только в том, что мало имеющихся фактов, цифр, фамилий, но, в основном, в том, что они чрезвычайно разбросаны и очень лаконичны. Попытаемся, хотя бы частично восполнить, приводимые пробелы, и отдать должное тем людям, кто первыми стали на пути страшной, все сметающей фашистской лавины, скажем о тех, кто в самое трагическое, трудное, сложное время давал людям надежду на будущую победу, личным примером звал к борьбе с оккупантами и их бесчеловечными порядками, кто на практике доказал, что гитлеровцев можно успешно бить, давать отпор, наносить потери.
22 июня части 4-й армии ЗапОВО, дислоцировавшиеся в приграничных районах Брестской области, одними из первых приняли на себя мощнейший удар правого крыла фашистской группы армий «Центр». Несмотря на крайне тяжелые и кровопролитные бои, соединения Красной Армии оказывали упорное сопротивление нацистским войскам. Даже после разгрома основных сил 4-й армии и отхода уцелевших войск на восток, многие пограничники, командиры и красноармейцы продолжали борьбу, проявляя при этом стойкость и мужество. Их всеми силами и всеми способами поддерживали местные жители – коммунисты, комсомольцы, советский актив, учителя, даже дети. Например, в Брестской области первые партизанские группы возникли сразу после взятия врагом Бреста, в районах Беловежской и Ружанской пущ, и за Кобрином. Их возглавляли местные активисты, пограничники, командиры подразделений советских войск, разбитых, но не сдавшихся.
Одни из первых партизанских групп, уже в конце июня, возглавили учитель, начальник Домачевского (районного) пионерлагеря беспартийный И.Дмитриев, и его ученик комсомолец И Переветайло; другую – командир Домачевского погранотряда коммунист В.Кузнецов, уцелевший в бою с фашистами. В конце июня были созданы партизанские группы, в июле объединившиеся в Старосельский партизанский отряд (Жлобинский район Брестской области). В его состав вошли местные жители, пограничники с разбитых застав, оказавшиеся в окружении воины 84-го и 125-го стрелковых полков из Брестского гарнизона во главе с майором С.К. Дородных, лейтенантом С.К. Шикановым, бывшим членом КПЗБ, председателем сельского совета деревни Старое Село М.Н. Черпаком. В Коссовском районе (Брестская область) жители деревни Житлин создали по своей инициативе партизанскую группу и на общем собрании избрали ее руководителем командира Красной Армии А.П. Черткова, позже, в апреле 1942 года, группа переросла в отряд. В августе 1941 года был создан партизанский отряд из жителей Песковского сельсовета Березовского района Брестской области во главе со старшиной В.М. Монаховым. Летом 1941 года в Ружанском районе (Брестская область) из местных жителей организовались партизанские группы во главе с бывшими членами КПЗБ М.Е. Криштафовичем и В.Ф. Мисюлей. Вскоре сюда прибыли группы, состоящие из «окруженцев» под командованием А. Журбы, П.И. Маслова, Ф.П. Горланова, Г.И. Дорофеева. В мае 1942 года эти группы, по инициативе подпольного Брестского межрайонного «Комитета борьбы с немецкими оккупантами», объединились в партизанский отряд имени И.В. Сталина с численностью 125 партизан. В августе 1941 года в Брестской области партизанскую группу создал бывший член КПЗБ В.А. Янушко (псевдоним «Поддубный»). Группа состояла из местных жителей ряда деревень и бежавших советских военнопленных.
Необходимость успешной борьбы с фашистами требовала объединения еще разделенных и немногочисленных подпольных и партизанских сил. Во второй половине августа состоялось совещание представителей шестнадцати подпольных и партизанских групп. На совещании, по предложению М.Е. Криштафовича, было принято решение объединить все действующие в районе Ружанской пущи партизанские формирования и назначить их руководителем старшего лейтенанта А. Журбу. В Беловежской пуще хорошо организованным и боеспособным был партизанский отряд под командованием майора И.И. Крылова. В августе из местных жителей и военнослужащих создан партизанский отряд капитана В.Т. Концендалова. На юге Беловежской пущи, в районах Бельска, Гайновки, Заблудово, била противника партизанская группа в количестве семидесяти человек.
Всего летом 1941 года в составе семи партизанских отрядов в Беловежской пуще сражались с врагом более пятисот партизан. И партизаны не бездействовали.
Об опасности Вермахту, в результате партизанских действий в захваченных фашистами районах Брестчины, докладывала в Берлин полиция безопасности и СД. Уже в оперативной сводке № 4 от 26 июня 1941 года (на пятый день войны) сообщалось: «… русские пограничные части защищаются в форме партизанской войны, что вызывает нежелательные потери с немецкой стороны».[154]
Однако искры партизанской борьбы разгорались не только в Брестской, но и в других западных областях республики. В Белостокской области пришлось действовать в особо тяжелых условиях. К 28 июня область была полностью оккупирована, и гитлеровцы выделили ее территорию в отдельную административную единицу «Бецирк Белосток» и включили в состав Восточной Пруссии (собственно земель самой Германии). Гитлеровцы создали на территории области густую сеть гарнизонов, уничтожили многие населенные пункты в Беловежской пуще, перекинули сюда воинские части из резервов Вермахта, направили дополнительные полицейские силы. Жители подверглись жесточайшим репрессиям, была введена система заложников.
Но все эти меры не могли предотвратить партизанской борьбы, хотя делали ее чрезвычайно трудной и сложной. Во второй половине июля 1941 года на территории Свислочского района организовалась партизанская группа во главе с бывшим членом КПЗБ Н.Н. Болтриком. В нее влились, бежавшие из плена, военнослужащие во главе с капитаном Красной Армии В.П. Кириченко и к осени эта группа насчитывала двадцать пять партизан. Организовались и группы под командованием В.А. Авдонина и А.А. Потапова. В августе южнее города Бяла-Подляска действовала группа майора Горбуна (погиб в бою с карателями в октябре 1941 года). В конце июля в Белостокском, Заблудовском, Крынковском районах начала действовать партизанская группа И.А. Тимошенко («Афанасьева») созданная из советских воинов, попавших в окружение, и местных патриотов. К началу 1943 года группа выросла в партизанский отряд имени А.М. Матросова.
Появились партизанские группы в Скидельском, Гродненском и других районах Белостокской области. Так, в Скидельском районе вела борьбу группа под руководством коммуниста А.А. Потапова и бывшего члена КПЗБ В.А. Сытого.
Гитлеровцы захватили город Барановичи 27 июня 1941 года, а к концу июня оккупировали всю область. Однако, окруженные в районе Новогрудка разрозненные части и подразделения 4-й и 10-й армий, продолжали сопротивляться до середины августа. Вырвавшиеся из окружения группы красноармейцев и командиров советских войск находили поддержку среди местного населения и продолжили борьбу партизанскими методами. В районе Новогрудка действовал отряд полковника Бессиярова, около Лиды – старшего лейтенанта, фамилия которого, к сожалению, не установлена, погиб. Летом-осенью 1941 года в Бытенском и Слонимском районах из «окруженцев» и местных жителей сложился ряд партизанских групп под руководством: А.В. Фридрика (погиб в бою с карателями осенью 1941 года), Г.А. Дудко, И.С Козелецкого, П.В. Пронягина, Каленова, С.И. Грищенко, Д.А. Шмыгнера, А.Ф. Перснянцева. Реальность борьбы с сильным и многочисленным врагом потребовала объединения и позднее эти группы образовали отряды имени Н.Щорса, И.А. Зайцева и другие. Группы действовали на территории нескольких районов. Так, например, группа Фридрика действовала в Слонимском, Бытенском, Коссовском районах.
К 5 июля территория Вилейской области была оккупирована войсками Вермахта. Здесь стали возникать по инициативе партийно-комсомольского и советского актива партизанские группы и подпольные комсомольские группы. Организаторами таких групп были и те немногие командиры, и политработники Красной Армии, которые осели на территории области. Так, в районе Вилейки партизанскую группу возглавил бывший член КПЗБ А. Волынец, в Сморгонском районе – П. Сопач, в Дуниловичском – Г. Крюков. В Ильянском районе одну партизанскую группу возглавил Е. Волостных, вторую – А. Запевалов (оба военнослужащие), третью группу – И. Иванов. В Молодеченском районе во главе партизанской группы стал В. Черкасов, член компартии с 1925 года. По его инициативе из воинов Красной Армии 28 июня была организована партизанская группа, которая вскоре приступила к боевым операциям. В июне 1942 года на базе группы образован диверсионно-разведывательный отряд имени С.М. Буденного. Во многих населенных пунктах летом и осенью 1941 года возникли подпольные комсомольские организации. Так в деревне Липники Поставского района комсомольское подполье возглавил Н. Осененко, в деревне Мисуны Мядельского района – Н. Мисуна, в Куренецком районе – Н. Матюкевич. В деревне Полово на Поставщине возникла разветвленная комсомольская организация «За Родину», объединявшая несколько комсомольских групп Поставского и Шарковщинского районов. По характеру своей деятельности комсомольские группы вначале мало чем отличались от партизанских групп. В августе 1941 года на территории Костеневичского сельсовета Куренецкого района начала действовать партизанская группа во главе с беспартийным А.С. Азончиком (будущим Героем Советского Союза) и комсомольцем Я.И. Апанасевичем, оформившаяся в декабре 1943 года в партизанский отряд «Патриот».[155]
Боевые действия на территории Пинской области начались 25 июня и продолжались до 8 июля 1941 года. Область обороняла 175-я стрелковая дивизия, которая позже распоряжением командования 4-й армии была выведена в направлении города Овруч (Украина). 26 июня, по решению обкома партии, был создан партизанский отряд под командованием В.З. Коржа, опытного партизанского и военного командира. Он в 1921–1925 годах был активным участником партизанского движения в Западной Беларуси, находившейся под властью Польши, а в 1936–1939 годах участвовал добровольцем в гражданской войне в Испании на стороне законного республиканского правительства. В его отряде летом 1941 года насчитывалось до семидесяти человек. 4 июля под Пинском отряд вступил в свой первый партизанский бой с гитлеровцами. Всего летом в области действовало семь партизанских отрядов. В августе-сентябре партизаны в жестоких схватках с карателями, из двух бригад СС, понесли тяжелые потери. В этих условиях отряды вынуждены были, отрываясь от превосходящих сил противника, рассредоточиться на мелкие группы. Одни из них вышли за линию фронта в советский тыл, другие приступили к подпольным методам борьбы.[156]
В июле самостоятельно возникли партизанские группы и отряды и в восточной части республики, там, где гитлеровцы смогли внезапно прорваться, и не было возможности заранее подготовиться к партизанской борьбе. Например, в деревне Загалье Любанского района Минской области боевую партизанскую группу создал Д.Хомицевич. В Чашникском районе Витебской области вооруженную борьбу против оккупантов возглавил Т.Я. Ерманович, а в Суражском районе партизанский отряд в количестве пятидесяти человек создал М.П. Шмырев. К партизанским методам борьбы перешел отряд «Красный Октябрь» Октябрьского района Полесской области во главе с Т.П. Бумажковым и Ф.И. Павловским, которые за успешную партизанскую деятельность 6 августа 1941 года стали первыми партизанами – Героями Советского Союза. В Минской области еще в конце июня было создано два партизанских отряда, а в июле – августе еще семнадцать. В Могилевской области в июле-августе насчитывалось тринадцать отрядов. Среди них Кличевский отряд, образованный 14 июля, через два-три дня после начала оккупации, в составе которого насчитывалось более тридцати коммунистов и комсомольцев. Через два месяца в отряде насчитывалось уже двести человек. В Полесской области в июле действовали шесть партизанских отрядов, а в августе уже шестнадцать, в Витебской области летом 1941 года было четырнадцать отрядов, и в Гомельской ‑ пять отрядов. В целом летом 1941 года по республике боролись с оккупантами до ста отрядов и групп. А всего во второй половине 1941 года самостоятельно возникло около шестидесяти отрядов и групп. К зиме 1941–1942 годов число групп и отрядов в Белоруссии выросло уже до двухсот.[157]
Партизанское движение расширялось и крепло.
Самостоятельно возникшие на оккупированной территории Белоруссии партизанские формирования (часть из них, летом 1941 года, готовились заранее) и во многих случаях пешим ходом забрасывались на территорию, оккупированную немцами. В ряде восточных районов республики партизанские отряды и группы конспирировались накануне оккупации и начинали действовать уже после отступления Красной Армии. Эта деятельность была целенаправленной и организованной, но, из-за крайние нехватки времени и опыта, далеко не всегда была достаточно подготовленной, поэтому партизаны и подпольщики были слабо обученными, что не могло не вести к значительным потерям их личного состава, разгрому отдельных партизанских формирований и подпольных организаций в условиях установившегося крайне жестокого оккупационного режима и массовых репрессий против населения. Трудности усиливались, как значительной концентрацией в прифронтовой полосе сил Вермахта и полицейских частей, так и отсутствием, в связи с удалением фронта на восток связи с руководящими органами за линией фронта, и материально-технического и медицинского снабжения.
Формирование, организация и заброска партизанских подразделений шли, как централизовано, под руководством ЦК Компартии Белоруссии, так и в региональном масштабе под руководством обкомов и райкомов партии. В тех конкретных исторических условиях Компартия была единственной руководящей силой, которая организовывала, идейно направляла партизанское и подпольное движение на захваченной фашистами территории БССР, особенно в восточных областях, где было большее количество коммунистов, комсомольцев, советского актива, воинов Красной Армии. Компартия Белоруссии была частью Всесоюзной коммунистической партии большевиков – ВКП(б) и выполняла все указания и решения Москвы. Уже в директиве Совнаркома СССР (правительства) и ЦК ВКП(б) от 29 июня содержались конкретные указания по организации подпольной и партизанской борьбы на захваченной гитлеровцами территории: «В занятых врагом районах, создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». 18 июля ЦК ВКП(б) принял постановление, в развитие предшествующей директивы «Об организации борьбы в тылу германских войск», в котором конкретизировал ранее поставленные задачи. В постановлении указывалось, что, «наряду с партизанскими отрядами и диверсионными группами, следует развернуть сеть большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов».
Руководствуясь указаниями Москвы, и учитывая реальную угрозу оккупации всей территории республики, ЦК Компартии Белоруссии, обкомы и райкомы, на еще не оккупированной врагом части республики, провели большую работу по организации партизанского движения и подпольной борьбы. 30 июня ЦК Компартии Белоруссии принимает директиву № 1 о подготовке к переходу на подпольную работу партийных организаций районов, находившихся под угрозой фашистской оккупации. 1 июля ЦК принимает директиву № 2 «О развертывании партизанской войны в тылу врага», где указал, что «все коммунисты и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, занятой врагом». Выполняя данные директивы, ЦК и областные комитеты партии в первые месяцы войны подобрали и направили для организации подпольной и партизанской борьбы 1215 коммунистов, в том числе восемь секретарей обкомов и сто двадцать секретарей горкомов и райкомов партии, в 89 районах Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской и Пинской областей были организационно оформлены подпольные районные партийные органы, возглавляемые секретарями либо членами бюро райкомов партии, созданы 397 подпольных территориальных первичных организаций. Всего летом 1941 года для борьбы в тылу гитлеровских оккупантов было оставлено около восьми тысяч коммунистов из состава республиканской партийной организации (на 1 июня 1941г. в Компартии Белоруссии насчитывалось семьдесят пять тысяч членов и кандидатов в члены партии).
Были и значительные недостатки. Далеко не все подпольные партийные органы и организации, из числа созданных в июле-августе, смогли развернуть свою деятельность. Из-за быстрого продвижения войск Вермахта часть из них не успела закрепиться на своей территории и отошла вместе с частями Красной Армии. Развитие событий летом 1941 года не всегда позволяло, при формировании партийного подполья, дать оставшимся в тылу товарищам четкие установки, выработать действенные принципы конспиративной работы. Некоторые коммунисты, недостаточно глубоко осознав важность и необходимость партийного подполья, ушли с подразделениями советских войск, считая, что в их рядах они смогут вести более эффективную борьбу с агрессором. Были и случаи, хотя и редкие, когда отдельные «коммунисты» отказывались от активной деятельности с желанием незаметно пересидеть трудное и опасное время.
Надежным помощником Компартии Белоруссии был комсомол. Уже 2 июля ЦК Компартии республики принял решение направить во вражеский тыл, для выполнения специального задания, пятьдесят пять комсомольцев, которые были объединены в несколько групп. 7 июля в оккупированные врагом районы были направлены еще 125 добровольцев – комсомольцев. 9 июля ЦК комсомола республики принял постановление о подготовке к переходу комсомольских организаций Белоруссии на подпольную работу в районах, находившихся под угрозой фашистской оккупации. Заблаговременно, если позволяла обстановка, партийные и комсомольские органы республики подобрали, проинструктировали и оставили на оккупированной территории семьдесят три кадровых комсомольских работника, свыше 1 400 первичных комсомольских организаций, объединявших в своих рядах около пяти тысяч комсомольцев.
Однако комсомольское подполье понесло тяжелые потери в результате неопытности, слабой конспирации, жестких репрессий оккупантов. Из числа оставшихся семидесяти трех руководящих комсомольских работников, в 1941 году погибло пятнадцать человек, не успев развернуть деятельность в тылу противника. Еще более ощутимыми оказались потери среди рядовых комсомольцев. Отдельные руководители и рядовые комсомольцы, потеряв связь с партийными и комсомольскими органами, не сумели приспособиться к условиям оккупации и (осенью-зимой 1941 года) ушли за линию фронта, влились в ряды действующей армии.
Но неудачи не сломили большинства комсомольцев. С участием, находившихся в оккупированном Борисове коммунистов, была создана и под их руководством проводила работу комсомольско-молодежная группа, которую возглавлял Б.П. Качан. Члены этой организации добывали оружие, собирали боеприпасы, совершали диверсии, распространяли листовки. К подпольной работе привлекли группу пионеров – В. Пашкевича, М. Бутвиловского, В. Соколову, С. Климковича.
Другим важным направлением деятельности партийных и комсомольских органов, наряду с созданием подпольных организаций в не оккупированных врагом районах республики, стали подбор, обучение, формирование и переброска за линию фронта партизанских отрядов и групп, но, в ряде случаев, их оставляли на территории, с которой отходили части Красной Армии. Сначала был подробный инструктаж будущих партизан, затем обучение в партизанских школах и их филиалах группами от 15 до 25 человек в течение пяти дней, а позже обучали уже в течении десяти дней. Здесь центром организации выступал ЦК Компартии Белоруссии. 1 июля в Могилеве было проведено совещание руководящих работников, которые направлялись в тыл врага для создания партийно-комсомольского подполья и развертывания партизанского движения на захваченной Вермахтом территории. В работе совещания приняли участие и выступили Первый Секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко, Маршал Советского Союза и член Политбюро ЦК ВКП(б) К.Е. Ворошилов и заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников. И это указывает на то, какое большое значение придавало партийное, государственное и военное руководство СССР развертыванию партизанской борьбы в тылу врага в начавшейся войне.
Направление партизанских отрядов началось, когда еще шли бои за Минск, Борисов, Бобруйск. В конце июня – начале июля из Могилева в занятые противником районы, было направлено четырнадцать первых партизанских отрядов.
Особенно сильно пламя партизанской борьбы летом 1941 года пылало в прифронтовой полосе в тылу войск группы армий «Центр», несмотря на значительную насыщенность этой полосы частями Вермахта. Сказывалась близость советских войск и наличие налаженной связи, хотя и пешей. Например, 26-30 июня в Могилеве были созданы семьдесят четыре партизанских отряда с общей численностью 2 880 человек (в среднем 40 человек в отряде), в июле в Лиозно (Витебская область) ‑ двадцать девять партизанских групп, с общей численностью 363 человека (в среднем 12 человек в одной группе), в Гомельской области в июле – августе создано семьдесят групп в пятьсот человек (в среднем по семь человек в группе).
С чем была связана относительная средняя и малая численность отрядов и групп? На наш взгляд, она объясняется следующими причинами: во-первых, партизанское движение только зарождалось и не было еще опыта из практики по оптимальному составу подразделений; во-вторых, довольно большое количество самих отрядов и групп и их малый численный личный состав позволял успешно маскироваться и незаметно передвигаться; в-третьих, помогало быстро маневрировать и просачиваться через окружение, или боевые порядки в случае карательных акций противника; в – четвертых, население еще полностью не отошло от психологического шока, в связи с разгромом Вермахтом десятков дивизий Красной Армии и начала фашистской оккупации, поскольку перед войной советская пропаганда уверяла в том, что если враг нападет, то война будет победоносной, быстрой и достаточно легкой – «малой кровью на чужой территории».
К 25 июля в восточных областях Белоруссии и Пинской области были подготовлены сто восемнадцать отрядов и групп с общей численностью 2 264 человека, но не все из них смогли уйти в тыл врага. Из общего числа отрядов и групп, подготовленных в Могилеве, Лиозно, Рославле, Гомеле, только восемьдесят восемь перешли линию фронта, а тридцать отошли на восток с частями Красной Армии. Некоторые испугались трудностей партизанской борьбы, кто-то боялся без вести пропасть, ведь связь была очень слабой и одиночной, а кое-кто посчитал, что если воинов Красной Армии немцы в плен берут, исключая политработников и евреев, то захваченных в плен партизан страшно пытают и люто казнят. О «прелестях» фашистского плена еще мало кто знал.
Но организация и подготовка партизанских формирований шла непрерывно и последовательно. Если позволяли хоть какие-то условия, то ЦК делало все, чтобы помочь развитию партизанского движения в западных областях Белоруссии. Так, из-за линии фронта в Пинскую область были направлены или заранее оставлены летом-осенью 1941 года двадцать четыре партизанских отряда и диверсионных групп (по другим данным было 18 диверсионных групп). Конкретный опыт первых недель и месяцев партизанской борьбы четко указал на жизненную необходимость объединения и централизации сил отдельных партизанских групп. Стали образовываться отряды, имеющие больше вооружения и боеприпасов, возрастающие возможности для проведения боевых операций, увеличивающимся личным составом. В ряде случаев отдельные партизанские группы вырастали в отряды, пополняясь местными жителями. В июле-августе в Минской области активно действовали около тридцати партизанских отрядов и несколько десятков групп, в Могилевской ‑ до сорока отрядов и групп, в Полесской – восемнадцать отрядов. Нередко на территориях, под угрозой оккупации, оставались партизанские отряды: в Гомельской, Пинской, Полесской областях начали действовать тринадцать подготовленных отрядов в составе которых находилось около пятисот человек, в том числе шестьдесят работников НКВД–НКГБ Белоруссии, занимавшиеся разведкой и контрразведкой. Отдельные отряды создавались накануне оккупации и по указанию ЦК КП(б)Б. Так 22 августа был организован Лоевский (Гомельская область) партизанский отряд «За Родину» в количестве пятидесяти человек, который сумел сохранить свой боевой костяк, преодолеть, возникающие трудности, и развернуть активную деятельность.[158]
Наряду с ЦК организацией и подготовкой партизанских отрядов и групп в восточных областях республики вели и обкомы партии, в том числе и эвакуировавшиеся из западных областей. В Гомельской области обком партии в июле подготовил и направил за линию фронта четыре группы организаторов партизанского движения в количестве сорока трех человек. Из Мозыря (Полесская область) обком послал (в период с 7 по 30 июля) четыре партизанских отряда и пять партизанских групп. Секретарь Гомельского обкома КП(б)Б 10 августа сообщал в ЦК 10, что в пятнадцати районах области создано пятьдесят восемь партизанских групп (в среднем по 4–5 групп в одном районе) общей численностью 1770 человек, которые снабжены оружием и обеспечены лесными базами.
Помогал обкому и ЦК Компартии Белоруссии: в период августа-декабря 1941 года в Гомельскую область были направлены девяносто четыре диверсионные группы в количестве 671 человек (в среднем семь человек в группе).
Но данная помощь оказалась недостаточной. Причиной тому явилось быстрое продвижение противника вглубь СССР. Значительная часть этих групп не смогла перейти через линию фронта, закрепиться, в намеченных для них районах, и выполнить поставленные боевые задачи. Многие патриоты погибли в боях с карателями. Часть из них, не выдержав тягот и лишений суровой партизанской жизни, вышла обратно за линию фронта. Активную борьбу против гитлеровских захватчиков смогли развернуть пять отрядов: Речицкий (командир А.И. Кутейников), Рогачевский (командир К.Т. Кузнецов), Гомельский сельский (командир А.Ф. Бурый), Лоевский (командир С.В. Дундуков), Гомельский городской отряд «Большевик» (командир И.С. Федосеенко). Наиболее боеспособным стал отряд «Большевик», созданный Гомельским горкомом партии. Организационно он был оформлен еще накануне оккупации города – 17 августа. В отряд вступило более сорока человек, решивших остаться в тылу немецких войск для борьбы с гитлеровцами.
Из Витебской области, где располагался в июле Вилейский обком партии, было послано в Вилейскую область четырнадцать партизанских групп и отрядов, первый из которых – «Смерть фашизму» был сформирован еще 28 июня. В результате упорной и ежедневной организаторской работы Витебским, Гомельским, Могилевским, Минским, Полесским обкомами партии самостоятельно были созданы, по неполным данным, более сорока партизанских диверсионно-разведывательных групп и свыше девяноста партизанских отрядов, которые были направлены в тыл врага. К сожалению, далеко не все посланные группы и отряды смогли перейти линию фронта, а те, кто перешел, не всегда смогли дойти до указанных им районов деятельности и закрепиться там, часто подвергаясь ударам карателей.
Для непосредственного руководства отрядами и группами, разведкой и диверсионной деятельностью на территории Белоруссии в тылу врага 18 июля ЦК создал «Тройку» во главе со вторым секретарем ЦК КП(б)Б П.З. Калининым. Позже (в сентябре 1942 года) он возглавил Белорусский штаб партизанского движения, которым руководил до полного освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков к началу августа 1944 года, а «тройкой» стал руководить секретарь ЦК КП(б)Б Г.Б. Эйдинов. Членами «тройки» были заместитель наркома госбезопасности Белоруссии С.Г. Духович и заместитель наркома внутренних дел БССР А.П. Мисюров. При обкомах партии создавались областные «тройки». Так, 23 июня Полесский обком принял постановление, которым утвердил областную «тройку» с аналогичными задачами в составе секретаря обкома Ф.М. Языковича, председателя облисполкома К.Т. Зайцева и начальника областного управления госбезопасности И.Н. Иващенко.
Особое внимание руководящие партийные органы уделяли организации тайных партизанских баз, которые должны были обеспечить партизан материально-техническим и продовольственным снабжением. О том, что война будет длительной и оккупация Белоруссии гитлеровцами затянется на три года никто не предполагал, все расчеты делались только сроком на несколько месяцев. Базы создавались в Витебской, Гомельской, Могилевской, Полесской областях (в июле-августе) при активном содействии истребительных батальонов в период до оккупации. Так же они были созданы в Суражском, Месовском, Рогачевском, Петриковском, Лельчицком, Ельском Октябрьском, Россонском и некоторых других районах восточных областей.[159]
Из направленных партизанских отрядов и групп в 1941 году в области, оккупированные гитлеровцами, распределение их выглядело так: Барановичская – 12 групп общей численностью 120 человек; Гомельская – 16 отрядов и 91 группа с общей численностью 2 746 человек; Белостокская – 1 группа в составе 18 человек; Минская – 6 отрядов и 48 групп с численностью 914 человек; Брестская – 1 отряд и две группы с численностью в 64 человека; Могилевская – Могилевская 13 отрядов и 56 групп численностью 1 936; Вилейская – 1 отряд и 14 групп с численностью 276 человек; Пинская – 26 отрядов и 18 групп с численностью 1 094 человек; Витебская – 39 отрядов и 40 групп с численностью 890 человек; Полесская – 26 отрядов и 60 групп с численностью 808 человек. А всего 105 отрядов и 342 группы с общей численностью 8 866 человек (подсчеты произведены авторами на основе архивных документов Национального Архива Республики Белоруссии (НА РБ)).
По опубликованным данным, в централизованном порядке было сформировано в июле-сентябре 1941 года 430 партизанских отрядов и групп, в которых насчитывалось более 8 300 человек. И, несмотря на то, что не все отряды и группы смогли выполнить поставленные задачи, все же значительная часть смогла придти на места дислокации и стать организационным ядром для многих боеспособных партизанских формирований в 1942 году. В августе на территории республики активно действовал шестьдесят один партизанский отряд, а всего в июле-декабре били оккупантов около ста отрядов и, примерно, столько же партизанских групп. Многие из них полностью погибли в неравных боях с войсками Вермахта и полицейскими частями, часть отрядов и групп была рассеяна, и партизаны перешли на подпольные формы борьбы в населенных пунктах, некоторые ушли обратно за линию фронта. Но при всем при этом, даже в крайне неблагоприятных зимних условиях 1941‑1942 годов, около двухсот отрядов и групп, с, примерно, шестью-семью тысячами партизан, продолжали вооруженную борьбу с захватчиками.
Однако мало было сформировать и организовать партизанские отряды и группы на не оккупированной врагом территории, их надо было обучить, дать знания о формах и методах партизанской борьбы, о подготовке и проведении диверсий, засад, ударам по шоссейным и железнодорожным коммуникациям, по гарнизонам противника, способам и методам получения сведений о враге и своевременной их передаче по назначению. Люди в отрядах и группах готовы были до последней капли крови, до последнего вздоха бить фашистских оккупантов, но им остро не хватало, нужных для успешной борьбы, знаний и опыта.
Почему сложилось такое положение, почему почти не было обученных партизанских кадров? Ведь то, что рано или поздно, придется воевать с враждебными агрессивными силами, все хорошо понимали, и прежнее (до 1937–1938 годов) политическое и военное руководство учитывало возможность вражеской оккупации территории БССР и необходимость партизанской борьбы. В начале тридцатых годов был издан в Минске труд М.А. Дробова «Малая вайна. Партызанства i дыверсii», в Москве – «Партизанский учебник» (перевод с финского). Однако они были изданы малым тиражом и предназначались сугубо для узкого круга читателей. Готовилась к партизанским действиям и Красная Армия. В 1933 году, после прихода в Германии к власти нацистов, в качестве наставления для войск появилась «Инструкция о партизанской борьбе».
В первой половине тридцатых годов в Белоруссии, как и в целом по стране, велась определенная работа по подготовке партизанских отрядов. В БССР были организованы шесть отрядов: Бобруйский, Борисовский, Минский, Мозырский, Полоцкий и Слуцкий. В них насчитывалось по 300–500 человек в каждом и имелся свой штаб. Все члены этих отрядов были коммунистами, комсомольцами, многие участниками гражданской войны. Весь личный состав отрядов был обучен методам партизанских действий в специальных школах № 1 и № 2. В них готовили минеров, пулеметчиков, снайперов, парашютистов и радистов. Помимо данных отрядов, в городах и в крупных железнодорожных узлах были созданы и обучены подпольные диверсионные группы. В лесах были заложены склады с оружием и боеприпасами. В них насчитывалось пятьдесят тысяч винтовок и сто пятьдесят ручных пулеметов, с учетом будущего количественного и численного роста партизанских отрядов в случае войны и вражеской оккупации. Командирами отрядов были назначены С.А. Ваупшасов, В.З. Корж, К.П. Орловский, А.М. Рабцевич. Назначение этих людей не было случайным. В годы гражданской войны в Испании они воевали на стороне законного Испанского правительства в качестве советских добровольцев. Имели боевой опыт. В годы Великой отечественной войны все они стали известными партизанскими командирами и за свою партизанскую деятельность удостоены звания Героя Советского Союза. Фамилии ещё двоих командиров, к сожалению, пока неизвестны. До середины тридцатых годов обучение в спецшколах прошли около трех тысяч командиров и специалистов. В конце тридцатых годов в руководстве СССР победила военная доктрина, согласно которой, если и будет война, то проходить она будет на вражеской территории, малой кровью и быстро. Полевой устав Красной Армии 1939 года ориентировал на быстрое перенесение войны на территорию напавшего врага. Кроме того, как позже писал П.К. Пономаренко: «В предвоенные годы вопросы борьбы, в случае возникновения войны, практически не разрабатывались и это отразилось на темпах организации и развертывания партизанского движения в первые месяцы войны. Одной из причин такого положения была недооценка партизанского движения». Идея о возможности перенесения войны на советскую территорию с оккупацией ее части была вытеснена из обращения и объявлена «пораженческой и вражеской». Самое страшное, что в 1937–1938 годах были репрессированы многие подготовленные партизанские кадры, некоторые ‑ расстреляны, другие ‑ сосланы на многие годы в лагеря ГУЛага по обвинению в антисоветском заговоре и подготовке к вооруженному свержению советской власти. Уцелели очень немногие – те, кто сменил место жительства или воевал в Испании, Китае, Корее. Партизанские склады были ликвидированы. В результате, к лету 1941 года, ни концептуально, ни организационно, ни в кадровом отношении не были подготовлены условия для широкого развертывания партизанской и подпольной борьбы.[160]
Приходилось начинать с нуля, с использованием, чудом уцелевших, немногочисленных специалистов. Но нужно отметить, что все мероприятия по созданию центров обучения будущих партизан проводились быстро и в значительных масштабах. Как свидетельствует один из руководителей организации обучения партизан полковник И.Г. Старинов, уже на второй день войны, в Москве, была сформирована группа специалистов под руководством полковника Х.Д. Мамсурова и Г.Л. Туманьяна, имевших большой организационный и боевой партизанский опыт в войне в Испании. 24 июня они прибыли на Западный фронт и к ним присоединились еще восемь человек, которые имели подготовку в партизанской школе в тридцатые годы. Эта группа действовала на Западном фронте три недели и провела обучение в течение двух – пяти дней (в конце июня – начале июля) свыше тысячи человек, которых забросили в тыл врага из Могилева. Данная группа создала небольшую партизанскую школу во главе с А.К. Спрогисом ‑ особоуполномоченным разведывательного отдела Западного фронта, участником войны в Испании (в 1943–1944 годах начальник Латвийского штаба партизанского движения), в середине тридцатых годов был одним из преподавателей спецшколы в Белоруссии по подготовке партизан. В течение трех недель в этой партизанской школе при Западном фронте обучался и К.С. Заслонов. В июле К.Е.Ворошилов оставил в распоряжении ЦК Компартии Белоруссии Мамсурова, Туманьяна, Старинова для подготовки будущих партизан в оперативно – учебном Центре (ОУЦ) и в школе ЦК КП(б)Б. Позже эта школа слилась с ОУЦ.
Школа ЦК была создана по решению ЦК КП(б)Б 11 июля, а 18 июля Бюро ЦК организационно ее оформило, с контингентом обучающихся в школе, 400 человек. 13 июля по решению ЦК КП(б)Б был организован ОУЦ, который оформили приказом командующего Западным фронтом С.К. Тимошенко с численностью курсантов от двухсот до четырехсот человек одновременно. Курсанты обучались способам ведения разведки, правилам конспирации, знакомились с тактикой партизанской борьбы, минно-подрывному делу, правилам использования, как отечественного, так и трофейного оружия, а также организации и ведению агитационно-массовой и политической работы среди населения оккупированных районов и в партизанских отрядах. На первых порах курс обучения составлял тридцать часов (3–5 дней), затем, когда позволила обстановка, обучались семьдесят часов в течение десяти дней.
Комплектование ОУЦ переменным личным составом производилось местными партийными, советскими, комсомольскими организациями под непосредственным руководством ЦК КП(б)Б и обкомов партии за счет коммунистов, комсомольцев, до конца преданных Родине советских работников, сотрудников госбезопасности и милиции.
Начала проводиться специализация будущих партизан при обучении в ОУЦ. Наряду с обучением широкого контингента рядовых партизан, разведчиков, подрывников, связных и других специалистов, в Центре готовили одновременно командиров отрядов и групп, а также инструкторов – организаторов партизанского движения. ЦК Компартии Белоруссии уделял большое внимание организации подготовки разведчиков, диверсантов, партизан. Из числа работников аппарата ЦК была выделена специальная группа комплектования, включавшая и преподавателей школы ОУЦ в количестве восьми человек. Одновременно из представителей ЦК была укомплектована группа проводки в составе трех человек, которая занималась вопросами подготовки переброски через линию фронта будущих диверсантов, разведчиков, подпольщиков, партизан в составе групп и отрядов.
Однако курсантов надо было одевать, снабжать обувью, обеспечивать питанием и размещением, выделять средства для обучения и выдачи стипендий курсантам и зарплаты сотрудникам ОУЦ и школы ЦК КП(б)Б. По указанию ЦК КП(б)Б Совнарком БССР для обеспечения учебного процесса выделил 21 июля денежные средства в размере двух миллионов рублей, а в начале августа правительство БССР по просьбе командования ОУЦ ассигновало дотацию в сумме девятьсот тысяч рублей на приобретение курсантам гражданской одежды, улучшение питания и оказания единовременного денежного пособия (одиноким поменьше, семейным – побольше).
Дислокация ОУЦ-С 11 по 18 июля учебный центр находился в Рославле. За это короткое время в нем смогли пройти обучение, и были направлены за линию фронта восемь небольших партизанских отрядов и групп. В двадцатых числах июля данный Центр был перебазирован в район Гомеля в деревни Ченки, Марковичи Тереховского района для лучшей конспирации и запутывания немецкой разведки.
Здесь же находилась школа ЦК КП(б)Б по подготовке партизанских кадров (в ряде документов она именуется Центральной партизанской школой, Белорусской Центральной школой, Гомельской школой). В августе они – ОУЦ и Школа ЦК КП(б)Б объединились на базе ОУЦ. Чтобы ускорить процесс подготовки партизанских кадров и специалистов разведывательного и диверсионного дела на базе школы ЦК КП(б)Б был открыт ее филиал в Мозыре. За несколько дней до оставления Гомеля, 19 августа, нашими войсками ОУЦ был перебазирован в город Орел, где, начиная с 17 августа, возобновил свою работу. Позже располагался на 17-м километре по шоссе Брянск–Орел в опытном лесничестве, где и продолжил свою работу по подготовке партизан и диверсионно-разведывательных групп. Переменный состав обучавшихся в ОУЦ подбирался непосредственно работниками групп комплектования из числа белорусского населения.
Кроме ОУЦ и его филиала в Мозыре летом 1941 года для обучения партизан создавались кратковременные курсы и подготовительные центры, проводились инструктажи-наставления. Они действовали в Могилеве, Лиозно, Витебске, Мозыре, Гомеле, Полоцке. За время работы филиала в Мозыре было обучено и оставлено в тылу врага тридцать четыре небольших партизанских отрядов и диверсионно-разведывательных групп в количестве 438 человек. В филиале одновременно обучались около двухсот человек, но наборов было несколько. В ОУЦ прошли обучение 184 партизанских отряда и разведывательно-диверсионных групп общей численностью 2 472 человека. Из них сто тридцать два отряда и группы, насчитывавших 1 950 человек, были переправлены через линию фронта, а остальные пятьдесят два отряда и группы, численностью в 522 человека, были законспирированы и оставлены в прифронтовой полосе для разведки и партизанских действий.
Придавалось также важное значение вовлечению женщин в активную борьбу с оккупантами. В партизанской школе было создано отделение для подготовки женщин-разведчиц. Здесь в короткие сроки, указание об этом было дано 12 августа ЦК КПБ(б) Гомельскому обкому партии, были обучены разведывательному и диверсионному делу шестьдесят женщин. А с 13 августа в школу уже должны были ежедневно направлять по двадцать женщин. Аналогичное указание было дано и Полесскому обкому партии. Обучение, из-за крайне небольшого времени на него, являлось кратким и не очень разносторонним, но свою роль оно сыграло.[161]
В подготовке партизанских кадров и их переброске за линию фронта приняло самое активное и командование соединений Красной Армии. В начале августа при Политотделах Западного и Центрального фронтов создаются оперативные пункты 3-й и 10-й армий, где обучили и забросили за линию фронта по десять небольших партизанских групп с каждого пункта, а в начале сентября оперативные пункты 21-й и 31-й армий примерно такое же количество групп и Туровском, Октябрьском районах Гомельской и Пинской областей. Две группы из числа воинов-добровольцев в августе были переправлены в Бобруйский и Осиповичский районы Могилевской области. Еще 28 человек было подготовлено для совершения диверсионных актов на железной дороге Старушки–Бобруйск, поджога предприятий, разведки. Оперативный пункт 21-й армии обучил подрывному делу шестьдесят пят человек, которые были направлены партизанские отряды. Кроме того, он подготовил трех связных и пять парашютистов-разведчиков. Через филиалы других армий было направлено за линию фронта шестьдесят пять диверсионных групп. В течение лета оперативными пунктами армий было направлено в оккупированные районы Белоруссии 250 человек для совершения диверсионных актов
Оперативные группы выделяли проводников по маршруту движения, разведчиков, связных, которые оказывали практическую помощь в быстрой переброске за линию фронта шестидесяти пяти партизанским разведывательно-диверсионным группам и отрядам из ОУЦ. Отделы и отделения при политотделах фронтов и армий дополнительно направили еще десять партизанских отрядов и групп в августе, снабдили их оружием, агитационной литературой.
Как правило, направленные по линии советского военного командования разведывательные группы устанавливали контакт с местным населением, и на их базе нередко возникали партизанские отряды. Так, 23 августа, в район Витебска, была выброшена группа парашютистов – разведчиков и диверсантов. Они обосновались на территории Мышканского сельсовета Сенненского района Витебской области. Парашютисты совершили несколько диверсий на шоссейных дорогах, по которым на фронт перебрасывалась вражеская боевая техника, установила связь с подпольной комсомольской организацией А.А. Нехаева в деревне Симаки. Нехаев и его друзья оказали помощь воинам в выполнении их заданий, а бойцы помогли подпольщикам в расширении и креплении их организации. Позже на их базе была создана партизанская группа.
Командование Западного фронта в течение лета 1941 года направило в оккупированные районы БССР несколько собственных партизанских групп с общим числом в 220 человек. Все они были из военных добровольцев, обученных партизанским методам борьбы. Только за август было заброшено сто шестьдесят четыре парашютиста. Небольшие группы будущих разведчиков и партизан, а также уполномоченных ЦК КП(б)Б готовил к выброске начальник парашютно-десантной службы ВВС Западного фронта И.К. Старчик. Это был настоящий труженик, который неоднократно показывал своим ученикам, как нужно покидать самолет ночью и успешно десантироваться с грузом.
Кроме обучения будущих партизан способам различных диверсий в тылу врага их снабжали изготавливаемыми на ряде предприятий минно-подрывной техникой и гранатами для проведения боевых операций. В Рославле производили противопоездные и автодорожные мины массой один килограмм двести грамм взрывчатки, что вполне хватало для подрыва эшелона, танка или грузовой автомашины. В Гомеле мины изготавливали в мастерских городской электростанции, Новобелицком льнокомбинате, спичечной фабрике «Везувий» и ими снабжали небольшие группы диверсантов из трех-пяти человек. В армейских артиллерийских мастерских изготовили для партизан до десяти тонн различных мин и около двухсот тысяч гранат. Взрывчатку предоставляли по указанию воинских штабов армейские склады. Только на Гомельском паровозоремонтном заводе в июле – августе было изготовлено и поступило для партизан 1 350 мин и 4 310 зажигательных зарядов. Все это привело к тому, что нормальная и своевременная переброска живой силы, боевой техники, материального обеспечения частей Вермахта следующих на фронт по железным и шоссейным дорогам во многом была сорвана партизанскими диверсионными группами. Например, генерал Вагнер сообщал начальнику Генерального штаба сухопутных сил Вермахта Гальдеру, что группа армий «Центр» не может быть должным образом обеспечена всем необходимым «в результате разрушения партизанами железнодорожных путей».
В меру сил и возможностей партизанам помогало Разведуправление Генерального штаба Красной Армии. Только разведорганы Западного фронта подготовили и направили в июле – августе за линию фронта около пятисот разведчиков, двадцать девять разведывательно-диверсионных групп и семнадцать партизанских отрядов. Военные разведчики совместно с ОУЦ к пятому сентября подготовили и забросили по линии разведотдела штаба Западного фронта 184 диверсионные группы в количестве 1 424 человека (среднем по 8-м человек в одной группе). Так что партизанские кадры готовили, обучали, направляли из-за линии фронта и партийные органы (ЦК и обкомы партии), и различные школы, курсы, центры, военно-оперативные пункты армий и разведотделы Западного фронта.[162]
В целом, как сообщал в ЦК ВКП(б) первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пономаренко 19 августа, на учете числилось свыше двухсот тридцати партизанских отрядов и диверсионно-разведывательных групп в составе которых насчитывалось более двенадцати тысяч человек. Из этого количества сто сорок восемь отрядов и групп прошли подготовку в Школе ЦК КП(б)Б, Оперативно-учебном центре (ОУЦ) и его филиале в Мозыре. Многие не смогли выдержать удары многочисленных подразделений фашистских карателей и понесли большие потери, часть перешла в осенне-зимний период к подпольным методам борьбы, другая часть не смогла активно действовать в крайне трудных условиях жесточайшего оккупационного режима и ушла к линии фронта или самораспустилась. Крайне негативно на масштабах и темпах развития партизанского движения сказывались почти полное отсутствие связи с зафронтовыми руководящими органами, разгром оккупантами многих оставленных партизанских баз, острый недостаток оружия, боеприпасов, взрывчатки, нехватка продовольствия, медикаментов, одежды, обуви. Но преодолевая, с большими потерями, имеющиеся трудности многие десятки партизанских отрядов и групп выстояли, приобрели опыт и прочные связи с подпольем и партизанами из местного населения. По документальным источникам прослеживается история девяноста двух партизанских отрядов (по другим источникам – 99-и) действовавших на оккупированной территории Беларуси во второй половине 1941 года и около ста групп. В них насчитывалось (по подсчетам авторов) от шести до семи тысяч партизан в самый тяжелый, трудный, сложный период. Весной 1942 года начался новый, уверенный подъем партизанского движения, создавались десятки новых отрядов, которые стали объединяться в бригады, появились первые партизанские зоны – территория, которая была полностью освобождена от фашистов.[163]
Помимо организации партизанских отрядов и групп следует отметить начало успешных операций партизан летом 1941 года против фашистских оккупантов, их войск и боевой техники, максимальное затруднение в использовании гитлеровцами транспортных коммуникаций ‑ железных дорог, шоссе, мостов. Это были не массовые удары, как в 1943–1944 годах. Самих партизан в июле-августе 1941 года было еще относительно немного, обучены они были недостаточно, не хватало оружия, боеприпасов, минно-взрывной техники, не было очень важного для борьбы опыта боевых действий, приходилось отбиваться от подразделений врага, направляемых немецким командованием против партизан после практически каждой их успешной операции. Но боевые действия партизан, не смотря на потери, не прекращались, а усиливались и они отнюдь не были стихийными и хаотичными. Они имели четкие и ясные указания зафронтового руководства. В задачу большинства посылаемых в это время через линию фронта отрядов и групп входило: дезорганизация движения на вражеских коммуникациях, подрыв складов противника с горючим и боеприпасами, железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожение линий телеграфно-телефонной связи и так далее. Еще в самом начале, 29 июня ЦК КП(б)Б принял постановление о засылке в оккупированные районы Беларуси двадцать восемь мелких диверсионных групп для уничтожения живой силы и организации диверсий на аэродромах и взлетных площадках авиации противника. Инструктаж командиров этих групп проводили Маршалы Советского Союза К.Е. Ворошилов и Б.М. Шапошников совместно с первым секретарем ЦК Компартии Беларуси П.К. Пономаренко. В первых числах июля в Витебске для проведения совещаний и инструктажа работников обкомов и райкомов партии по вопросу создания, укомплектования, направлений борьбы в тылу врага диверсионно-разведывательных групп, подпольных организаций и партизанских отрядов побывали секретари ЦК КП(б)Б
П.К. Пономаренко, В.Г. Ванеев, И.И. Рыжиков. Такую же работу в Могилевской области проводил секретарь ЦК КП(б)Б И.П. Ганенко на состоявшихся в двадцатых числах июля совещаниях в шести районах этой области: Березинском, Бобруйском, Хотимском, Горецком, Пропойском, Климовичском. Секретарь ЦК В.Г.Ванеев 23 июля ознакомил партийный и советский актив Полесской области с постановлением ЦК ВКП(б) об организации борьбы в тылу германских войск и дал конкретные указания по созданию и действиям партизанских формирований и подполья на случай оккупации противником территории области. [164]
Объединенные едиными задачами партизанские формирования наносили чувствительные удары по фашистам. Особенно активно партизаны действовали в Минской области. В трех районах: Старобинском, Краснослабодском, Любанском к двадцатым числам августа партизаны уничтожили свыше ста пятидесяти солдат и офицеров врага, сожгли пятнадцать автомашин, захватили в качестве трофеев большое количество оружия и боеприпасов, ряд важных штабных документов. В этих районах и еще в Слуцком и Стародорожском были уничтожены мосты через реки Случь, Морочь, Орессу, а также выведена из строя телефонно-телеграфная связь. Восемнадцатого августа Совинформбюро, сводки которого слушали по всей территории СССР, сообщило, что партизанские отряды, действующие в зоне города Слуцка, оккупированного немцами, создают исключительные трудности для фашистов. Изо дня в день, говорилось далее, партизаны уничтожают немецкие транспорты с боеприпасами, горючим и продовольствием, истребляют немецких разведчиков, связистов, отставших от своих частей немецких солдат и даже отдельные полразделения фашистской армии. В начале августа военный комендант Слуцка был вынужден доложить своему командованию, что «партизанские отряды растут количественно, вооружение их улучшается; нападения на наши транспорты и войска совершаются в самых неожиданных местах и своим отчаянным характером, опрокидывают всякое представление о нормальных военных операциях». Получив это донесение, германское командование обязало коменданта «в десятидневный срок полностью ликвидировать все партизанские отряды, чего бы это ни стоило».
При благоприятных условиях партизанские отряды начинали захватывать райцентры с немецкими гарнизонами. Так, в конце июля, воспользовавшись некоторым ослаблением немецкого гарнизона в Слуцке, Краснослободской партизанский отряд под командованием М.И. Жуковского стремительно ворвался в город, разгромил комендатуру, уничтожил почту, сжег склады с военным обмундированием, освободил большую группу советских военнопленных, раздал населению зерно, муку с мельницы и продукты питания из продовольственных складов. После этого отряд провел смелый рейд до райцентра Красная Слобода и разгромил находившийся там вражеский гарнизон.
Успешно прошла операция партизан по разгрому гарнизона противника в райцентре Богушевск Витебской области. Ее провели в начале сентября 1941 года совместно силами Богушевского партизанского отряда под командованием А.И. Стельмаха и отряда под командованием И.Ф. Беляева. Чтобы предотвратить возможность подхода подкрепления фашистам в гарнизоне со стороны шоссе Витебск–Орша, была выделена группа партизан в засаду. Основные силы партизан ночью незаметно вошли в Богушевск и забросали гранатами гитлеровцев. Группа прикрытия завязала бой с фашистами, которые на четырех машинах спешили на помощь своим в гарнизоне. Одну машину подорвали гранатами, остальные повернули назад. В самом райцентре партизаны разгромили местный орган власти захватчиков – городскую управу, уничтожили две автомашины и убили четырех немецких солдат и офицера. Захватив трофеи и ценные документы, они благополучно вернулись на базу.
Наносили партизаны и удары по складам с горючим, которые были крайне болезненными для частей Вермахта – танковых и механизированных, которые не могли без топлива выполнять наступательные приказы германского командования. Например, 28 июля партизанские группы под командованием С.С. Сумченко и И.М. Стельмаха уничтожили баки с бензином на Гродзенской нефтебазе (Могилевская область). Ранее, 26 июля, Кличевский партизанский отряд той же области, на аэродроме, находившемся вблизи райцентра Кличев, уничтожил запасы бензина. Нападали партизаны и на вражеские аэродромы, уничтожая самолеты. Не обходили партизаны вниманием и танки, уничтожали их, когда те останавливались на отдых и заправку в населенных пунктах. Так, в Червенском районе Минской области, 16 августа партизанская группа в деревне Пекалин подбила три немецких танка, а на следующий день на аэродроме в Шальянах сожгла шесть самолетов противника. Позже группа вошла в состав партизанского отряда под командованием Н.М.Никитина. В сентябре на Лепельском аэродроме (Витебская область) партизаны путем диверсии взорвали двести тонн авиабомб и четыре самолета.[165]
Вели боевые действия и первые партизанские отряды и группы и в Западной Беларуси. Партизанский отряд под командованием Голдырева и Анисимова в Луненецком и Ленинском районах Пинской области, насчитывавший в июле сорок человек, взрывал мосты, уничтожал из засад живую силу и технику врага. За два месяца боевой деятельности этот отряд взорвал два моста на железной дороге Барановичи–Луненец, уничтожил штабной бронетранспортер с семью немецкими офицерами, провел ряд других операций. В Столинском районе этой же области в июле-августе Столинский партизанский отряд на автодороге Столин–Высоцк–Сарны разрушил шестнадцать мостов и уничтожил десять километров телефонно-телеграфной связи.
Особое внимание партизаны уделяли ударам по транспортным коммуникациям противника, на что их ориентировали перед посылкой в тыл захватчиков – по железным дорогам, по шоссе, подрыв или сжигание мостов. Это приводило к довольно длительным задержкам в сроках продвижения частей Вермахта на восток, к отвлечению сил оккупантов на охрану транспортных коммуникаций, к увеличению числа гарнизонов и их численности, более быстрому расходованию резервов группы армий «Центр», переброске сюда дополнительных подразделений охранных дивизий и полицейских сил с других участков советско-германского фронта. Коммуникации в условиях войны можно сравнить с кровеносными сосудами в организме человека, которые обеспечивают его жизнеспособность. Коммуникации обеспечивают доставку на фронт живой силы и боевой техники, связывают воюющие армии с тылом. Даже простое их нарушение, не говоря уже о выводе из строя, негативно влияет на обеспечение фронта людскими и материальными ресурсами, регулярному снабжению воинских частей снаряжением, боеприпасами, горючим, продовольствием. Коммуникации немецко-фашистских войск по мере их продвижения вглубь Белоруссии растягивались на сотни километров и на каждом из них были возможны засады или минирование.
О некоторых ударах партизанских отрядов и групп на транспортных коммуникациях фашистов мы уже писали выше, рассказывая об их боевой деятельности. Но новые данные показывают размах ударов по транспортным коммуникациям и линиям связи. Отряд Шмырева в Витебской области на дорогах Сураж–Усвяты, Сураж–Велиж, Усвяты–Велиж в августе-сентябре уничтожили восемь вражеских автомашин, взорвал четыре моста, вывел из строя телефонную станцию в поселке Пудоть Суражского района, убил до семидесяти гитлеровцев. Партизаны Гомельского отряда «Большевик» летом-осенью 1941 года путем засад и налетов на шоссейных дорогах, связывающих Гомель с другими городами уничтожили до тридцати автомашин, около трехсот фашистов, вывели из строя несколько километров телефонно-телеграфной связи. На железнодорожной линии Гомель–Речица сожгли два моста.
В июле на железнодорожной станции Негорелое около Столбцов (Барановичская область) патриоты подорвали рельсы и воинский состав противника с боеприпасами. В Минской области партизанская группа под командованием К.В. Сидякина, направленная в тыл врага для организации диверсий на коммуникациях шестого сентября, подорвала воинский эшелон на стратегической железнодорожной магистрали Минск–Москва на перегоне Славное–Бобр и вывела из строя железную дорогу на этом участке на двое суток.
Партизанский отряд «Красный Октябрь» (Полесская область) восьмого июля взорвал мост через реку Птичь около деревни Березовка, а в конце июля взорвал два моста (Березовский и Холопеничский). Враг вынужден был задержаться и изменить свой план действий. Группа партизан из отряда Н.П.Покровского (Руденский район Минской области) первого сентября пустила под откос эшелон противника на перегоне Руденск–Седча. Активно действовала на коммуникациях группа партизан и подпольщиков в районе Орши во главе с помощником машиниста Оршанского депо Д.Е. Косачевым. Во второй половине июля патриоты нанесли удар по станции Красное восточнее Орши. Они уничтожили стрелки и вывели из строя путевое оборудование, мост и железнодорожное полотно между станциями Осиновка и Красное. В итоге движение поездов было прекращено на несколько суток.[166]
О влиянии партизанских ударов на психологическое состояние солдат Вермахта служит письмо, обнаруженное у убитого на Западном фронте ефрейтора 455-го пехотного полка Макса Грона своей жене в Германию, которое приводилось в сообщении Совинформбюро 27 августа 1941 года: «Пока мы доехали до Минска, наша автоколонна останавливалась шесть раз из-за неисправности мостов и четыре раза обстреливалась из пулеметов и винтовок. Особенно продолжительная остановка была между Слонимом и Барановичами. Здесь нас всех заставили чинить большой мост, разрушенный партизанами часа за два до нашего прибытия. Не успели мы отъехать и двух десятков километров, как началась такая пальба, что стало страшно. Это продолжалось пока мы не выскочили из леса. Все же на нашей машине оказалось четверо убитых и трое раненых… После Минска колонна разделилась и пошла в разные стороны. Мы продолжали путь пешком. Пока мы добрались до фронта, мы не переставали воевать с этими невидимками. Недалеко от Березино мы имели с ними форменный бой, в результате которого в нашей роте выбыло из строя сорок человек». Как далека была эта реальность от надежд гитлеровцев на спокойный тыл, как они считали. Действительность была совсем иной, несмотря на операции карателей, на многие десятки гарнизонов, на регулярнее патрулирование коммуникаций.
В районе Смолевичи‑Борисов на железной дороге Минск–Москва действовала, прибывшая из-за линии фронта, диверсионно-организаторская группа И.И. Ясиновича. В начале сентября эта группа подорвала поезд с продуктами питания для солдат вермахта, и пустила под откос эшелон с живой силой врага. Паровоз и двенадцать вагонов полетели под откос. Дорога в районе диверсии не работала свыше десяти часов. Всего в 1941 году на магистрали Минск–Москва группа Ясиновича совершила девять крушений эшелонов противника с живой силой, боевой техникой, боеприпасами и продовольственно-вещевым имуществом, а также уничтожила вдоль железнодорожной магистрали и шоссе Минск–Борисов два километра телефонно-телеграфной линии связи. Несмотря на все трудности, размах диверсий на тыловых коммуникациях Вермахта непрерывно возрастал. В период с начала войны до 16 сентября 1941 года в тылу немецких войск было разрушено 447 железнодорожных мостов, в том числе в тылу группы армий «Центр»-117. Удары по немецким коммуникациям, нанесенные диверсионными группами НКВД и партизанами сбивали темп немецкого наступления и отвлекали с фронта значительные силы врага. Противник был вынужден выделить до трехсот тысяч солдат для охраны военных объектов в тылу своих войск.[167]
Летом 1941 года занимались партизанские отряды и группы разведкой в интересах Красной Армии и советских руководящих органов, информируя их об обстановке на оккупированной территории Белоруссии и о первых шагах оккупационной администрации фашистов. Крайне негативным фактором было отсутствие раций и радиосвязи, в связи с чем передача развединформации проходила через связных или через, возвращающихся в советский тыл, разведывательно-диверсионных групп и выходящих обратно через линию фронта, в силу разных причин, партизанских отрядов. Кроме того, передача разведданных затруднялась и тем, что линия фронта была подвижной. Все это серьезно тормозило по времени разведывательную работу партизанских формирований. ЦК и обкомы Компартии Белоруссии, командование советских войск в этих трудных и сложных условиях делали все возможное для усиления эффективности партизанской разведки.
В ОУЦ, партизанской Школе ЦК КП(б)Б, на краткосрочных курсах и инструктажах диверсионно-разведывательные группы, еще в ходе подготовки к переброске в тыл врага, обучались методам не только партизанской борьбы, но и разведки. В их состав подбирались люди, хорошо знавшие друг друга по прежней совместной работе, знакомые с населением и природными условиями районов их будущей боевой деятельности. При комплектовании соблюдался принцип добровольности. Обычно не включались в эти группы те товарищи, семьи которых остались в тылу противника, а тем семьям, которые находились на еще обороняющейся белорусской территории, давали возможность организованно уехать в эвакуацию. Уходящие в тыл врага должны были быть спокойны за судьбу своей семьи.
Многие разведывательно-диверсионные группы и даже отряды должны были, после выполнения поставленных перед ними задач и выяснения нужных вопросов, возвратиться через десять-пятнадцать дней назад, в советский тыл для доклада о результатах в ЦК КП(б)Б или в соответствующие командные органы Красной Армии. Далеко не всем это удавалось сделать, и они начинали действовать, исходя из сложившейся обстановки, так как линия фронта могла отодвинуться на восток на десятки километров. Некоторые не смогли найти для перехода слабо охраняемый участок фронта, а также попадали под удары частей охранных дивизий и полицейских сил в прифронтовой полосе тыла группы армий «Центр». Надо учитывать, что ЦК Компартии Белоруссии не все диверсионно-разведывательные группы ориентировал на переход к методам постоянной партизанской борьбы в тылу захватчиков. В задачу многих из них входило не только проведение диверсий, но и выявление скоплений войск Вермахта и интенсивности их передвижения, выяснение всех вопросов, связанных с проводимыми мероприятиями оккупационных властей по отношению к местному населению и, уцелевшему в ходе боев, промышленному и сельскохозяйственному производству. Также требовалось уточнение того, кто допускается немцами в местные органы власти и кто, конкретно, их возглавляет, как относится население к нацистской военной, хозяйственной и административной машине, где, сколько и какие партизанские отряды действуют в тылу врага, результаты их операций. В ряде случаев сведения, полученные от возвратившихся отрядов и диверсионно-разведывательных групп, в сочетании с материалами других источников и после их анализа, использовались ЦК КП(б)Б, командованием фронтов и армий для периодических обзоров и регулярных отчетов в ЦК ВКП(б) и Главное Политическое Управление Красной Армии. Привлекалась и центральная пресса, Совинформбюро, Московское радио для публикации или радиопередач. Одновременно доставленные сведения служили важным материалом для улучшения оперативного руководства партизанскими формированиями и подпольной борьбой, для совершенствования обучения в советском тылу будущих партизан и разведчиков.
Информации с оккупированных районов могло быть с избытком. По имеющимся архивным данным, далеко не полным, в июне-декабре 1941 года были обучены и направлены в тыл противника в Белоруссию сто пять партизанских отрядов и триста сорок две диверсионно-разведывательных группы, с общей численностью 8 856 человек. [168]
Следует учитывать, что некоторые отряды и группы в схватках с карателями погибли, были рассеяны, перешли к подпольным методам борьбы в населенных пунктах. Сведения по количеству отрядов, групп, числу партизан в 1941 году разнятся и в разных архивных документах, и в опубликованной научной литературе.
Проводилась ли специальная подготовка разведчиков для партизан? В рассматриваемый период практически нет. При краткосрочной подготовке давались самые общие знания и ставились боевые задачи. Специальная, более долгосрочная, подготовка началась только в 1942 году, после образования Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) 30 мая 1942 года во главе с секретарем ЦК КП(б)Б Пономаренко и организованного 9 сентябре Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) во главе с секретарем ЦК КП(б)Б Калининым. В этих штабах были созданы разведывательные отделы, возглавляемые в ЦШПД заместителем наркома внутренних дел Белоруссии С.С. Бельченко, а в БШПД ‑ членом ЦК КП(б)Б И.П. Ганенко, позже возглавляемые военными разведчиками С.П. Анисимовым и А.В. Ливановым. Об отдельной группе по подготовке девушек-разведчиц, летом 1941 года, мы уже писали. Определенную работу, по созданию разведывательных групп и разведывательной сети в интересах Красной Армии и партизан, проводили обкомы партии. Так Полесский обком партии за период с 22 июля по 23 августа создал двадцать восемь разведывательных групп, из них восемь в Мозыре. Кроме того, двести девяносто семь местных жителей получили задания разведывательного характера. Первоначально опыт разведывательной деятельности начинал складываться в истребительных батальонах и отрядах народного ополчения, о котором мы писали в главе 7-й «Добровольцы». Вели разведку, и созданные в тылу гитлеровцев партизанские отряды. Например, 15 августа был организован партизанский отряд под командованием Ф.М. Анисимова, действовавший в Осиповичском и Глусском районах Могилевской области, состоявший из партийно-советского актива и. не вышедших из вражеского тыла, военнослужащих, во главе с Некрыловым (по другим сведениям, В.К. Крылов, погиб в сентябре 1941 года), в составе тридцати двух человек. Уже через пять дней, 20 августа, партизаны этого отряда захватили немецкую легковую машину со штабными документами, которые были переданы в штаб 121-й советской дивизии. Через некоторое время у деревни Радутичи партизаны обстреляли еще две автомашины. Все, найденные в них документы, были также сданы в штаб 121-й дивизии.
Немаловажное значение для получения нужной информации имел захват партизанами «языков» ‑ немецких солдат и офицеров, и передача их или полученных от них в ходе допросов сведений в штабы советских войск. В августе 1941 года партизаны Речицкого отряда вели разведку в интересах Красной Армии и захватили двух «языков». Нередко, в ходе разведывательных операций, партизаны устанавливали связь с окруженными частями Красной Армии и помогали им быстро и без потерь выйти к линии фронта. 15 июля партизанская группа, во главе с Н.И. Калинковичем, перешла линию фронта, собрала разведывательные сведения на оккупированной части Рогачевского района Гомельской области для 63-го стрелкового корпуса советских войск. Через одиннадцать дней, 26 июля, эта же группа вернулась через линию фронта и вывела из окружения семьсот бойцов и командиров Красной Армии.[169]
Добывала партизанская разведка и сведения, имевшие стратегический характер. В сентябре партизанские разведчики Витебской области передали, через своего связного, за линию фронта сведения о сосредоточении крупных танковых и авиационных сил Вермахта для наступления на Москву и об ориентировочных сроках его начала. Эта информация была получена в результате удачной засады, в которую попала немецкая легковая машина со штабными документами. К сожалению, у партизан в 1941 году не было радиостанций, и связной добирался до своих войск через линию фронта около двух недель. Ценнейшее время для принятия действенных контрмер против готовящегося гитлеровцами наступления на Москву было потеряно безвозвратно.
В целом же, по имеющимся данным, на захваченной фашистами территории Белоруссии были собраны и переданы командованию Красной Армии в 1941 году данные о тридцати пяти немецких аэродромах и посадочных площадках, о двадцать одной базе и артиллерийских складах в районе Баранович, Минска, Борисова, Орши, Пинска, Бобруйска и других населенных пунктах, о двенадцати штабах немецких частей, что помогло советским войскам, знающим о концентрации сил врага и их перемещениях, отражать удары дивизий Вермахта. Однако партизанская разведка для советских войск в 1941 году имела значительные недостатки: проводилась, как правило, в непосредственной близости к фронту, имела небольшую глубину, часто носила эпизодический характер. Сама разведка была слабо организована, носила, в основном, характер войсковой разведки и мало агентурной.
Быстро меняющаяся линия фронта не всегда позволяла советскому командованию оперативно использовать полученную информацию.[170]
Очень скоро встал вопрос о необходимости централизации партизанской борьбы, создания единого центра. Уже 2 июля, в донесении Сталину о развертывании партизанского движения в Белоруссии Пономаренко (член Военного Совета Западного фронта и первый секретарь ЦК КП(Б)б) предлагает создать при штабе фронта центр по руководству партизанской борьбой, обосновывает его необходимость и предлагает его состав. Он писал: «В Белоруссии развернулось партизанское движение… Это боевое движение необходимо поддерживать, подогревать, руководить им, подбрасывая иногда технику, устанавливать связи. Я предлагаю при штабе фронта создать управление по руководству партизанской борьбой, которое использовало бы для этого аппараты ЦК и СНК Белоруссии. Охотно это дело возглавил бы сам, так как занимаюсь этим и сейчас. Знание кадров и условий многому помогут. Заместителем назначить Цанаву (НКГБ) и Матвеева (НКВД). Практически, это почти сделано».
Однако в Москве это предложение не получило поддержки. В начале войны упор был сделан на органы госбезопасности. 18 июля 1941 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германо-фашистских войск». В постановлении было записано, что органы госбезопасности играют важную роль в обеспечении широкого развития партизанского движения, в организации боевых дружин (видимо отрядов самообороны и народного ополчения), диверсионных групп, которые должны организовываться из числа участников гражданской войны, проявивших себя в истребительных батальонах.
Руководство ими возлагалось, как пишет Судоплатов в своей книге, на органы НКВД и НКГБ. В эти же группы должны были войти коммунисты и комсомольцы, которые не используются для работы в партийно-комсомольских ячейках (здесь явно имеются в виду участники партийного и комсомольского подполья в тылу врага). В постановлении, подготовленном с участием руководящих работников НКВД–НКГБ СССР, шла речь о том, что для организации подпольных коммунистических ячеек, руководством партизанского движения и диверсионной работой в районы, захваченные противником, направлялись наиболее стойкие руководящие партийные, комсомольские, советские кадры, или преданные Советской власти беспартийные товарищи, знакомые с условиями местностей, где им предстояло работать. Имелось в виду, что райкомы партии, НКВД и НКГБ были единственными, знавшими обстановку и людей. Подбор кадров для подпольного аппарата определялся тесным взаимодействием партийных органов и оперативных работников НКВД.
Еще 5 июля, приказом по наркомату НКВД СССР, было сформировано специальное подразделение – Особая группа при наркоме внутренних дел во главе с П.А. Судоплатовым. Главными задачами Особой группы были: ведение разведопераций против Германии, и ее союзников, организация партизанской войны, создание агентурной сети, на территориях, находившихся под немецкой оккупацией, руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника. Судоплатов продолжал одновременно оставаться заместителем начальника закордонной разведки НКВД, то есть развитие партизанского движения было лишь одним из направлений его деятельности. Подчинялся он непосредственно Л.П. Берия. Позже Особая группа была преобразована в 4-е Управление НКВД СССР, которое занималось руководством всеми заброшенными в тыл противника спецгруппами НКВД, разведкой и диверсиями на оккупированной фашистами территории СССР в годы войны.[171]
Но, как показала практика в тылу врага, НКВД был специализированной организацией по вопросам разведки, контрразведки, противодействия антисоветским и антипартийным действиям и не мог возглавлять, организовывать и руководить всем партизанским движением и подпольной борьбой на оккупированной фашистами советской территории, в том числе и в Белоруссии. Поэтому в 1942 году были созданы и хорошо действовали штабы партизанского движения как Центральный, так и Белорусский, Украинский, Западный, Латышский, Литовский, Эстонский. Ими руководили, как предлагал Пономаренко, ЦК Компартий союзных республик, захваченных немецкими войсками. В основном работали в штабах специалисты из НКВД, различных штабов Красной Армии, разведки Генерального штаба Красной Армии. Однако задержка с централизацией и единым руководством летом 1941 года – весной 1942 года, негативно сказалось на развитии и эффективности партизанского движения и подпольной работы.
Важным направлением народной борьбы против фашистских оккупантов являлась организация и деятельность подпольных организаций – партийно-комсомольского характера Восточной Белоруссии и патриотических, антифашистских, в Западной Белоруссии летом 1941 года. Во многих городах, райцентрах, населенных пунктах, патриотически настроенные люди, независимо от возраста и пола, от партийности и социального положения, находили друг друга, объединялись для борьбы с гитлеровскими захватчиками, защищая свой образ жизни, социальную и национальную справедливость, завоевания и достижения Советской власти, несмотря на ее значительные ошибки и недостатки, и еще не высокий уровень жизни людей. У миллионов граждан была до войны надежда на лучшее, на преодоление ошибок и недостатков, особенно насильственной коллективизации, трудностей ускоренной индустриализации, массовых политических репрессий 1937–1938 годов, на дальнейшее улучшение и развитие образования, здравоохранения, культуры.
Особенно ярко это проявилось на фоне «нового порядка» нацистов – массовых убийств, разрушений городов и деревень, повсеместного грабежа, полного бесправия населения Белоруссии, зверской эксплуатации и беспощадного подавления любого протеста. Накладывала свой отпечаток на все происходящее и иноземная военная агрессия, которая не могла не вызывать резкого подъема патриотизма и искреннего желания защитить жизнь, свободу и независимость своего народа, и никакие карательные меры оккупантов не могли этому помешать. Борьба за сохранение советской власти тесно переплеталась с борьбой за биологическое выживание народа, за национальное и человеческое достоинство.
Если в восточных областях Белоруссии (Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской, Полесской) фактор борьбы за советскую власть был господствующим, так как за двадцать лет выросло целое поколение, не отделяющее себя от идеи и практики социализма, то в западных областях (Брестской, Белостокской, Барановичской, Вилейской, Пинской), где советская власть была менее двух лет (с сентября 1939 г.), положение было более сложным и борьба носила разносторонний характер. Но главным, определяющим во всех областях Беларуси, было одно ‑ надо объединяться и бороться, не жалея жизни, с оккупантами и их порядками. Безусловно, на характер борьбы в западных областях влияло и то обстоятельство, что в партийных организациях этих областей в канун войны насчитывалось 17 444 коммуниста из 75-и тысяч по республике, то есть менее одной четверти. К началу войны комсомол Белоруссии (ЛКСМБ) насчитывал около 255 тысяч человек, в восточной части находилось большинство комсомольцев, а в западной значительно меньше в силу исторически сложившихся обстоятельств. Был еще один фактор, который серьезно задерживал развитие подпольной борьбы, как в западных, так и в восточных областях Белоруссии. Это захват разведорганами врага архивов, а в ряде случаев в полном комплекте, включая фотографии и личные дела не только картотек и архивов наших штабов и документов разведывательных и контрразведывательных пунктов, но и списки их доверенных лиц и агентуры НКВД‑НКГБ среди местного населения, а также секретных личных материалов военных, советских и партийных органов, касающихся их персонального состава по всей республике. Такая секретная информация часто служила отправной точкой для проведения массовых репрессий против выявленного актива – арестов, допросов с «пристрастием», пыток, расстрелов, казни через повешение, и не только к ним самим, но и к членам их семей. В этом захватчики отличились летом 1941 года: «Абверкоманда-305» и ее группы (307, 308, 310, 316, 318, 325) Вермахта, которые вели контрразведывательную и карательную деятельность, зловещая нацистская служба безопасности и полиция безопасности из эсэсовцев (для краткости – СД). Вносила свою лепту, хотя и второстепенную, тайная полевая полиция (ГПФ), которая на территории Белоруссии имела восемь групп и двадцать периферийных команд и была военно-полицейским органом Вермахта в тылу группы армий «Центр».
Вот что пишет по поводу деятельности Абвера, его команд и групп, белорусский исследователь, доктор юридических наук полковник А.К. Соловьев: «В процессе осуществления контрразведывательной и карательной деятельности, абвергруппы использовали приданные им воинские подразделения охранных дивизий Вермахта (это позволяло им быстро продвигаться вперед даже в условиях боевых действий). Например, в составе «Абверкоманды-305» находилась специальная автомобильная колонна, с помощью которой захваченные во время наступления немецких войск документы и другие ценности, представлявшие интерес для Абвера, вывозились из Белоруссии. С этими же целями, до октября 1941 года, в составе наступающих частей Вермахта двигались специальные штурмовые отряды. В их задачу входил захват и сбор секретных материалов и материальных ценностей. Наиболее важные документы отправлялись в архивный отдел «Штаба «Вали-3»
Особый интерес для фашистов представляли документы, захваченные в зданиях штабов советских войск, как, например, в здании штаба военно-воздушных сил западной зоны. В Минске гитлеровцы обнаружили двадцать девять не эвакуированных шкафов и сейфов, с важной для них разведывательной информацией, составлявшей военную и государственную тайну. Подобным же образом Абверу удалось захватить ценные документы в военном лагере в Пружанах (Брестская область), где накануне войны, во время сборов, дислоцировалась наша 32-я танковая дивизия.
Нетрудно представить ценность полученной штурмовиками СС информации, и какие документы попали в руки врага, если командиры 3-го и 4-го специальных отрядов СС, приданных 47-му корпусу, ворвавшемуся в Минск, награждены лично фюрером железными крестами второй степени за операцию по захвату штаба авиаторов.
В это время шел шестой день войны – 28 июня. По мнению А.К. Соловьева, к числу виновных «за утечку особо важных секретных сведений» следует отнести довоенное командование Особого западного военного округа, которое в моральном отношении и сейчас ответственно перед народом за нарушение мобилизационных правил по эвакуации штабов и режима сохранения секретных документов. При этом не следует винить писаря, якобы не успевшего сжечь содержимое сейфов (в Минске). В этом виновен в первую очередь командный состав округа на самом высоком уровне.[172]
Зная теперь эти и другие факты, вряд ли стоит удивляться и поражаться страшному разгрому наших авиационных и танковых сил летом 1941 года и, как следствие, довольно быстрому продвижению войск Вермахта вглубь территории Белоруссии. Таким образом, гитлеровские спецслужбы стремились максимально подавить и уничтожить тех людей, которые могли стать организаторами народного сопротивления «новому порядку» оккупантов, которые никогда бы не смирились с участью рабов «арийских господ». Вряд ли можно точно определить, на имеющейся, на сегодняшний день, документальной базе, чем были вызваны такие провалы с секретностью и в Минске, и в других местах. Возможно, это был жуткий шок, паника, растерянность от крайне неудачного начала войны и быстрой оккупации, особенно в западных и центральных районах Республики, или это был злой умысел законспирированных врагов советского народа и советской власти. Чтобы не быть голословными, приведем несколько фактов о захвате фашистами секретных и совершенно секретных данных, а также сведений о личном составе, которые так или иначе были оставлены немцам и нанесли серьезный урон кадровому обеспечению начавшейся народной борьбе с оккупантами. Особенно это касается области противодействия нацистским спецслужбам, проведению разведки в интересах, как Красной Армии, так и партизанских отрядов, с целью обеспечения их боевой деятельности, и успешной работы подпольных организаций. Здесь мы будем опираться на, имеющиеся в Национальном архиве Республики Беларусь отчеты СД за период конец июня ‑ август 1941 года, направляемые ежедневно в Берлин. В первую очередь, немцы интересовались центрами размещения НКВД. Они рисуют следующую картину. Сводка № 1 от 23 июня (второй день войны) ‑ СД заняло здание НКВД в Бресте и захватило все дела прокуратуры и отдела кадров НКВД. Сводкой № 4 от 26 июня (пятый день войны) командир полиции безопасности и СД Люблинского округа сообщает о захвате в местечке Томашовка (Белостокская область) в здании НКВД большого количества разведывательного материала, в том числе, примерно, ста пятидесяти дел на агентуру НКВД с фотографиями. Сводка № 13 от 4 июля (13-й день войны) – в Барановичах в здании НКВД захвачены материалы его деятельности и фотографии. Сводка № 21 от 13 июля (22-й день войны) – в Витебске в здании НКВД захвачена картотека с фотографиями. Сводка № 20 от 21 июля (21-й день войны) в Доме правительства в городе Минске захвачены почти все документы, касающиеся государственного управления БССР, в том числе:
- Перечень членов правительства БССР с адресами жительства и указанием состава семьи;
- Перечень членов Верховного Совета БССР и их семей;
- Перечень ответственных работников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД);
- Перечень и многие документы важнейших учреждений БССР;
- Перечень ответственных работников ЦК комсомола Белоруссии.
Далее были захвачены все мобилизационные документы БССР.
В сводке № 31 от 23 июля (31-й день войны) указано, что под Витебском захвачен самолет-курьер, совершивший вынужденную посадку, с очень ценным материалом. Среди прочего была директива начальника Политуправления Красной Армии Мехлиса о создании партизанских отрядов. В сводке № 43 от 4 августа (44-й день войны) сообщается, что в Гродно, при тщательном обыске здания НКВД, была конфискована картотека с фотографиями личного состава, а также, в одном из зданий, были обнаружены во многих засургученных конвертах (видимо это были сверхсекретные «красные пакеты»), наступательные планы русской (советской) армии на случай войны.
В первые недели войны гитлеровские разведорганы и спецподразделения захватили часть документов советских органов госбезопасности в ряде областей Белоруссии, партийных и других архивов, в результате чего нацистским спецслужбам удалось парализовать работу нашей агентуры, оставшейся на оккупированной территории республики жить, и уничтожить ряд подпольных организаций.
С началом войны почти вся секретная документация органов разведки и контрразведки НКГБ, распоряжением Наркома НКВД Цанавы, по указанию Москвы, перемещенная на самый передний край (Брест, Ломжа, Гродно), была захвачена спецгруппами «Абвера-3». «Это нанесло урон всем оперативным силам и средствам органов НКВД‑НКГБ Белоруссии, в том числе, и на последующие годы, что касается не только западных областей республики, но и центральных и восточных. В Минске немецкие спецслужбы 28 июня, то есть в первый день занятия города, захватили часть советских и партийных архивов, документов НКВД и НКГБ БССР. В отличие от Бреста и других городов, расположенных недалеко от границы, в Минске было достаточно времени для эвакуации и уничтожения архивов, всех секретных документов, но, тем не менее, «ответственные лица» не успели до конца решить эти вопросы».
Такая расхлябанность, пренебрежение к соблюдению правил обращения с секретными материалами, было характерно не только для разных учреждений Минска, но и в других местах. Так, 31 июля, «Айнзацгруппа» СД докладывала в Берлин о наиболее ценных материалах, захваченных в Могилеве, оборона которого длилась двадцать три дня ‑ времени для уничтожения или вывоза документов было достаточно.
Что конкретно попало в руки врага:
‑ подробная картотека членов партии Полесья, Минска, Витебска, Могилева и Гомеля;
‑ неполная картотека ранее исключенных, а затем вновь принятых в члены партии;
‑ картотека по всем областям, районам и сельсоветам Белоруссии;
‑ перечень корреспонденции архивного отдела ЦК для Белоруссии;
‑ перечень, имеющихся в отдельных районах, документов (дел) по годам и их классификацию;
‑ хронологическая картотека истории компартии Белоруссии.
Вряд ли надо говорить о нанесении колоссального вреда партизанскому и подпольному движению, наличие у немцев таких секретных документов и материалов.
С наведением необходимого порядка в прифронтовых районах, с усилением сопротивления частей Красной Армии, с установлением жесткого спроса за сохранность секретных материалов, успехи у групп Абвера и СД закончились.
С целью усиления борьбы тайными методами и при помощи провокаторов против нарастающего партизанского движения и возникающих подпольных организаций, осуществлял действия специально созданный в июле 1941 года орган Абвера – «Абверштелле Минск», непосредственно подчинявшийся «Абверштелле Остланд» в Риге. Он направлял деятельность подвижных оперативных групп Абвера, которые постоянно действовали в районах Минска и Баранович. «Абверштелле Минск» осуществлял контрразведывательную работу, направленную на выявление групп советской разведки, а также для борьбы с партизанами в Белоруссии и карательную деятельность против гражданского населения. «Абверштелле Минск» руководил работой своих подразделений – «Аусенштеле», которые дислоцировались при военных комендатурах в Молодечно, Глубоком, Барановичах, Лиде, Смолевичах. Крупные, по количеству агентов, группы резидентур этих «Аусенштеле» осуществляли наблюдение за всеми слоями местного населения. Таким образом, Абверу удавалось проникнуть в ряды партизан и участников патриотического подполья в городах и в сельской местности, профессионально не защищенных в контрразведывательном отношении.
О том, с какой интенсивностью пополнялась вражеская агентура, свидетельствует такой факт: в Минске сразу же после его оккупации, в короткие сроки «Абверштелле Минск» через своих Абвер-офицеров привлек к сотрудничеству около семидесяти человек. На связи, только у одного из резидентов Абвера де Лассеа после десяти-четырнадцати дней работы, находилось уже около тридцати провокаторов. Многочисленные, опытные, хорошо оснащенные нацистские спецслужбы были укомплектованы персоналом в большом количестве и имели определенные успехи. Например, они знали о «подготовительных курсах» (видимо это ОУЦ) для будущих партизан. В конце августа 1941 года ГФП арестовала пять человек, и от них узнала данные (можно представить путем каких избиений и зверских пыток) о партизанских курсах в Гомеле, о количестве обучавшихся, о сроках обучения, о порядке засылки и обучения, в том числе, о задаче ликвидации немецких офицеров, с целью захвата документов. В отчете ГФП за октябрь 1941 года сказано, что получены данные от арестованного партизана о том, что 17 сентября под Витебском были выброшены с самолетов сорок два партизана, которые прошли десятидневные курсы.
Используя захваченные материалы и другие сведения, в том числе и от своей агентуры, СД добилось некоторых успехов. Так, начальник СС и полиции «Центр» 23 июля сообщал своему руководству, что возле Картузской Березы (Брестская область) «захвачен русский парашютист с рацией и взрывчаткой и его задание состояло в парализации движения на шоссейной дороге». В сводке № 43 от 5 августа указывалось, что обнаружена «тайная большевистская радиостанция» и отмечалось, что в Бресте «удалось обезвредить партийных функционеров, агентов НКВД и партизан». По полученной информации, полицейские карательные акции были проведены, как в западных областях Белоруссии – в Барановичах, Белостоке, Березе-Картузской, Бресте, Гродно, Копысе, Кореличах, Ляховичах, Лиде, Новогрудке, Ошмянах, Пинске, Слониме, Столбцах, Вилейке, Зельве, Волковыске, так и в восточных – Крупках, Шклове, Борисове, Минске, и в ряде других населенных пунктах.
Везде, как отмечалось в отчете СД, «были арестованы и после проверки обезврежены (читай – расстреляны) большевистские партийные функционеры, агенты НКВД, активисты из числа еврейской интеллигенции, а также «саботажники», «подстрекатели», партизаны и т.д.» То есть все, кто вызывал хоть малейшее подозрение оккупантов и их спецслужб и кто был не согласен с рабским существованием и мог активно бороться с захватчиками. И гитлеровцы старались изо всех сил, заливая кровью многих тысяч патриотов белорусскую землю, проводя не только масштабный, но и целенаправленный террор. Так в сводке № 73 СД, от 3 сентября 1941 года, указывалось, что айнзатцгруппой в составе передовой команды «Москва», передовых команд 7а и 7в, айнзатцкоманд № 8 и № 9 на 20 августа ликвидировано 16 964 человека.[173]
Но самый страшный и повседневный террор фашистов не смог подавить стремления белорусского народа к организации и отпору нацистским захватчикам и их «новому порядку». Несмотря на большие зверства, на виселицы и расстрелы, на аресты и концлагеря неизбежно стали возникать патриотические подпольные организации на оккупированной врагом территории Белоруссии. Подпольщикам приходилось действовать в условиях жесточайшего оккупационного режима, массовых репрессий, противодействия различных, сильных спецслужб гитлеровцев, доносов разного рода предателей, старавшихся выслужиться перед новыми властями или свести личные счеты.
Летом 1941 года участникам подполья приходилось преодолевать психологический шок от довольно быстрого разгрома Вермахтом частей и соединений советских войск (особенно в западных и центральных районах республик, потери уверенности в мощь и непобедимость Красной Армии, резкого перехода от условий строящегося социализма, уверенности в завтрашнем дне, ликвидации всех социальных завоеваний Октябрьской революции к полному бесправию, повальному грабежу и убийствам со стороны новоявленных «арийских господ».
Подпольщики, зачастую, не знали как, и не умели успешно действовать нелегальными методами, очень часто находились в контролируемых оккупантами населенных пунктах, не имели своей контрразведывательной службы и несли тяжелые потери. Да и принципы конспирации были еще явно недостаточными. Конспирацией, в основном, владели бывшие члены компартии и комсомола Западной Беларуси в 20-е – 30-е годы действовавшие на части территории БССР, находившейся под властью панской Польши с 1920 года. Кроме того, члены подпольных организаций ничем не должны были выделяться среди основной массы населения, а в разговорах и действиях обязаны были быть очень осторожными. Все это было тяжело, трудно, крайне опасно для жизни. Когда мы говорим о подпольщиках, то говорим о них, как о героях борьбы с фашизмом, смелых и самоотверженных людях. И это справедливо.
Надо знать и то, что подготовка к борьбе в условиях подполья (в случае войны) в БССР велась с упором на действия в городах и на крупных железнодорожных узлах. Будущие подпольщики, как и будущие партизаны, обучались в спецшколах № 1 и № 2 в Белоруссии. Были созданы и обучены подпольные диверсионные группы. Однако в середине 30-х годов спецшколы были ликвидированы, а подготовленные кадры, в большинстве, репрессированы. Даже думать о подполье, а не то, что готовиться к нему, было запрещено, ибо воевать будем, по доктрине «героев гражданской войны», «на чужой территории, малой кровью, быстро». Красная Армия, как пели тогда, «от тайги до британских морей всех сильней». Сама мысль о возможности ведения народной борьбы в тылу врага была похоронена. Если и велась в 1940–1941 годах какая-то подготовка к борьбе на вражеской территории, то она целиком и полностью возлагалась на кадры НКВД–НКГБ, в том числе на их агентуру и доверенных лиц. Их списки, во многих случаях с фотографиями, были захвачены гитлеровскими спецслужбами в начале войны, и судьба этих людей была трагична.
Одними из первых подпольные патриотические организации и группы, в форме антифашистских и комсомольско-молодежных, стали возникать в Брестской области. Уже 23 июня, на второй день войны, на нелегальное положение перешла группа активистов, во главе с бывшим членом Компартии Западной Белоруссии (КПЗБ), председателем Красненского сельского совета Пружанского района М.Е. Криштафовичем. В конце июня создалась комсомольская организация в населенном пункте Блудень, под Березой-Картузской, во главе с секретарем комсомольской организации средней школы С.П. Рутичем. Подпольщиками стали бывшие ученики школы А. и Н.Борушко, Н.Хведченя и другие. Члены организации установив связь с ушедшими в подполье коммунистами развернули работу по сбору оружия и боеприпасов на местах прошедших боев, распространяли сводки Совинформбюро, подготовке людей для борьбы в составе партизанских отрядов. В Коссовском районе организатором антифашистских групп стал опытный подпольщик, бывший член КПЗБ Н.Ф. Тринда, принятый накануне войны в члены компартии. В июле этот процесс продолжался. В деревне Собольки Порозовского района Брестской области бывшими членами КПЗБ В.В. Янушко, С.К. Кутько, А.С. Совко была создана антифашистская группа. Патриоты построили в лесу землянку и там прятали, кормили, одевали, вооружали и отправляли на восток, выходивших из окружения бойцов Красной Армии.
Значительное влияние на развитие подпольной борьбы на Брестчине оказали прибывшие из-за линии фронта бывшие члены КПЗБ И.П.Урбанович, до войны председателя Ружанского поселкового совета и заместитель председателя Ружанского райисполкома И.И. Жишко. Выполняя решение ЦК КП(б)Б от 30 июля, они ушли в Ружанский район и, в начале сентября, прибыли в деревню Березница. Вечером, 6 сентября, они встретились с советскими активистами и ознакомили собравшихся с задачами и целями борьбы в свете директив ЦК. Здесь же была оформлена Березницкая подпольная антифашистская группа.
Летом 1941 года из уцелевших коммунистов образовалось партийное подполье в городе Бресте. Особой активностью отличались секретарь партийного комитета Брестского железнодорожного узла П.Г. Жуликов (погиб) и инструктор Брестского горкома КП(б)Б Р.С. Радкевич. В короткое время П.Г. Жуликову удалось установить личные контакты с коммунистами Ф.М. Гавриловым, Б.С. Дзабиевым, М.М. Жигимонтом (погиб), И.Б. Степаненко и другими, работавшими до войны на железнодорожном узле. Одновременно вокруг Р.С. Радкевич сформировалась другая группа коммунистов в которую входили А.М. Бабушкина, Н.К. Комолова, Т.Н. Смирнова, А.И. Хромова, З.И. Южная и другие. В августе состоялась встреча и объединение обеих групп, что послужило основой партийной организации города. Здесь же был создан партийный центр. В него вошли шесть человек, во главе с Жуликовым и Радкевич.
Партийный центр продолжил работу по учёту, оставшихся в Бресте, коммунистов и до конца года сумели объединить до ста коммунистов. Патриоты наладили прием сводок Совинформбюро и распространение их среди населения, сбор оружия и боеприпасов, начали готовиться к созданию в пригородных лесах партизанского отряда. Осенью наладили связь со Старосельским партизанским отрядом. На явочной квартире А.М. Сенокосовой прятали оружие и боеприпасы. Подпольная партийная организация создавалась по производственно-территориальному признаку и, наряду с пятью группами из коммунистов, руководила девятью группами беспартийных и бюро комсомольской организации во главе с А.Нестеренковым. В 1942–1943 годах в партизанский отряд М.Н. Черпака передали пять пулеметов, шесть автоматов, шестьдесят пять пистолетов, сотни гранат, более шестидесяти тысяч патронов. Гитлеровцы вели яростную и беспощадную борьбу с патриотами. Погиб каждый третий подпольщик Бреста – 910 человек (что известно на сегодняшний день).[174]
Возникали подпольные патриотические организации и группы и в других западных областях Белоруссии. В Гродно начал активно действовать К.Г. Василюк, в тридцатые годы активный участник революционного движения в Польше. Сразу, после захвата фашистами города, он организовал и возглавил боевую подпольную группу. Примерно в это же время Н.А. Волков, военный инженер, создал подпольную группу из местных жителей и советских военнослужащих, а также членов их семей, оказавшихся на оккупированной территории. В январе 1942 года спецслужбы нацистов выследили патриотов, арестовали и замучили А.В. Василюка, Н.А.Волкова и его жену – В.В. Шапошникову и ряд других подпольщиков. На Гродненском железнодорожном узле организаторами антифашистской борьбы были коммунисты И.Н. Богатырев, И.У. Марцуль, Н.Е. Хорошилов, М.И. Цуканов, которые организовали нелегальную группу во главе с Богатыревым.
С первых дней оккупации стало зарождаться подполье в Пинске. Вначале борьбу вели отдельные сельские патриоты, но уже осенью, в Пинске и его пригородах, были созданы подпольные группы, в состав которых входили рабочие, представители интеллигенции, домохозяйки.
На территории Вилейской области решительно действовал Ф.Г. Марков, прибывший из советского тыла. В сентябре в Поставском районе он организовал нелегальную группу, которая проводила работу в деревнях Новоселки, Свенцяны, Подбродье, Золово, Лыптупы. Бывший директор торфозавода А.И. Волынец (в тридцатые годы член КПЗБ), после оккупации ушел в подполье, создал партизанскую группу и, имея богатый опыт подпольной работы, одновременно вел нелегальную работу, помогая местным активистам создавать в населенных пунктах подпольные группы. По его инициативе была создана такая группа в райцентре Куренец, во главе с комсомольцем Н.А. Матрокевичем. В конце июля Волынец в деревне Волковщина провел совещание, на котором были разработаны конкретные мероприятия по усилению борьбы с фашистами. Выполняя их, подпольщики установили связь с коммунистами В.Н. Желтко и М.П. Погудо, оставленных для подпольной работы в Вилейке, и наладили контакты с патриотами, проживавшими в деревнях Костелевичи, Любани, Талути, Уречье, Чеботарях, где также были созданы нелегальные группы.
Объединялись патриоты и в Барановичской области. В Лиде, на железнодорожном узле, создали подпольные группы коммунист М.Н. Игнатов и комсомолец А.А. Климко. Молодой рабочий Н.Г. Мурин стал руководителем подпольщиков в авиационных мастерских, ему помогали П.В. Жуков и Е.С. Капагель. Летом 1941 года студенты Новогрудского педучилища И. Мацко, В. Колесник, К. Балабанович создали комсомольскую организацию в деревнях Погорелки и Синявская Слобода Мирского района. Уже в июле – августе они имели влияние на молодежь других деревень района. Подпольщики Мирского района большое внимание уделили сбору оружия на местах прошедших боевых действий и организации его тайных складов. В лесном урочище «Берштаны» они хранили сто пятьдесят винтовок, два станковых пулемета системы «Максим», шесть ручных пулеметов «Дегтярева», два миномета, более десяти тысяч патронов.
Возникли подпольные организации и в Белостокской области. Комсомольско-молодежная организация появилась в райцентре Скидель. Летом в Белостоке действовали две подпольные организации. Одну возглавлял бывший член горсовета А. Якубовский, другую – майор А.Г. Дубашвили.[175]
Уже в июле стали организовываться первые подпольные группы в Минске ‑ крупнейшем городе Белоруссии по населению, важнейшему узлу железных и шоссейных дорог, крупному административному и промышленному центру. И это наперекор жесточайшему оккупационному режиму захватчиков, массовым репрессиям фашистов, сосредоточению нацистских спецслужб – Абвера, СД, ГФП, а также охранных войск, полицейских сил, различных подразделений СС, наличию администрации Генерального округа Белоруссия и хозяйственных штабов. Советские патриоты, независимо от возраста, пола, партийности и национальности организовывались, пусть в небольшие, но тесно сплоченные группы, и начинали борьбу с оккупантами, как могли и как умели. Никакой предварительной специальной подготовки их к действиям в подполье, к сожалению, не было, как и не было связи с начинающимся партизанским движением и с подпольными партийными, комсомольскими органами и руководством за линией фронта.
По-разному сложились в дальнейшем их судьбы. Многие погибли от рук гитлеровцев, но они были первыми, и мы должны о них помнить. Это, во многом, в их честь в 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой».
3 июля многим патриотам, оказавшимся в оккупированном Минске, удалось прослушать по радио программную речь Сталина. Руководствуясь, изложенными в ней указаниями, они начали формировать партийно-комсомольское подполье с участием значительного количества беспартийных граждан различных национальностей.
По опубликованным данным, за три года оккупации, Минское подполье объединяло 9 000 представителей двадцати пяти национальностей СССР, насчитывало 1 025 коммунистов, 2 044 комсомольцев, и до 6 000 беспартийных. По социальному составу: около 3 000 рабочих, 2 235 служащих, 1 860 бывших военнослужащих, более 1 700 учащихся и домохозяек. Именно в силу массовости, единства и патриотизма участников Минского подполья, оно сумело выдержать несколько крупных провалов и продолжить борьбу ‑ несмотря на многие сотни замученных, расстрелянных, повешенных, погибших в концлагере в Тростенце, задушенных в «душегубках». И это не только из-за деятельности фашистских спецслужб, но и в результате подлой деятельности провокаторов, предательства, плохого знания и применения принципов и методов конспирации.
Летом 1941 года все подпольные группы Минска действовали самостоятельно, по своей инициативе. Городской партийный центр, с целью объединения этих групп и координации действий подпольщиков, сформировался только в конце ноября 1941 года на заседании представителей ряда партийных групп, между которыми, к этому времени, были уже установлены контакты.
Одной из первых возникла группа в паровозном и вагонном депо станции Минск (в июле-августе) во главе с Ф.С. Кузнецовым (до войны начальник депо), в которую изначально входили пятнадцать человек. Постепенно группа охватила все важнейшие службы железнодорожного узла: паровозное депо, пассажирскую и товарную станции, водокачку и другие участки и создали там диверсионно-боевые группы. В дальнейшем в разное время на железнодорожном узле действовали около тридцати подпольных групп с, по неполным данным, более чем двести двадцатью патриотами.
В районе Комаровки создана подпольная группа С.К. Омельянюк В.С. Омельянюк во главе с Зайцем (Зайцевым) ‑ позже ставшего членом Минского подпольного горкома партии. В Октябрьском районе города сформировалась подпольная группа бывших работников республиканской конторы «Белнефтесбыта», в которую вошли И.П. Казинец, К.Д. Григорьев, Г.М. Семенов, позже избранные в состав Минского подпольного горкома партии. По инициативе М.К. Корженевского и М.И. Зекова возникла подпольная организация на кирпичных заводах №№ 1, 2, 3, 4, под руководством Р.Ф. Волынца и М.И. Зекова, в количестве шестнадцати человек. В августе организовалась подпольная группа в Грушевском поселке, под руководством И.С. Рутковского. Группа объединяла двадцать три человека на мебельной и табачной фабриках. Члены группы смогли вывести к партизанам более шестидесяти военнослужащих. В августе была также организована группа «Вера» из восьми человек. Члены группы прятали на своих квартирах раненых красноармейцев, устраивали их на лечение во вторую советскую больницу, обеспечивали их необходимыми документами и позже переправляли к партизанам. В начале 1942 года передали партизанам два ящика патронов, тринадцать винтовок, девять автоматов, много гранат. В августе возникла и группа В.З. Климука (псевдоним «Бедный»). Он организовал ее и сам возглавил. В ней объединились шестнадцать человек, из них пять коммунистов, три комсомольца, восемь беспартийных. Группа М.И. Ярославцева, созданная в августе, состояла из двадцати человек – работников электростанции и военнопленных. Подпольщики принимали по радио сводки Совинформбюро, распечатывали их на машинке и распространяли, как среди рабочих электростанции, так и среди жителей города.
В сентябре 1941 года возникла большая подпольная организация ‑ Военный совет партизанского движения (ВСПД). Ее создали военнослужащие, оказавшиеся в окружении. Среди них было много раненых из частей 13-й армии, которые нашли убежище у патриотов Минска. Организаторами были батальонный комиссар Б.Г. Бывалый, политрук В.М. Бочаров, младший лейтенант И.К. Кабушкин, старший лейтенант А.П. Макаренко, капитан Н.М. Никитин, майор И.З. Рябышев, бригадный комиссар Н.И. Толкачев. Установив с помощью местных патриотов контакты между собой, бойцы, командиры, политработники Красной Армии смогли создать организацию, численностью более трехсот человек, около шестидесяти процентов которых являлись коммунистами и комсомольцами. По имеющимся данным, с помощью ВСПД до марта 1942 года были образованы не менее восьми партизанских отрядов, которые действовали в пяти районах Минской области. В октябре 1941 года в них были направлены шестнадцать командиров и политработников. ВСПД допускал серьезные нарушения конспирации и в конце марта 1942 года был разгромлен фашистской контрразведкой, многие активные члены арестованы и казнены, но уцелевшие, продолжали борьбу.
С лета 1941 года начала свою деятельность группа бывших преподавателей и студентов Белорусского юридического института, в составе коммунистов М.Ф. Маланович, М.Б. Осиповой, А.А. Соколовой и других. Летом-осенью 1941 года в Минске и его окрестностях действовало, по неполным данным, более пятидесяти подпольных групп. Столичные подпольщики сыграли большую роль в дальнейшем развертывании патриотического подполья и партизанского движения.
К сожалению, многие из героических Минских подпольщиков были репрессированы органами НКВД после освобождения Минска, с согласия тогдашнего партийного руководства республики. Они обвинялись в предательстве и сотрудничестве с нацистскими спецслужбами. Это было связано с крупной провокацией «Абверштелле Минск» и «Авер Остланда» при участии управления полиции безопасности и СД в 1943 году по поводу Минского партийного подполья. Они передали фальсифицированные материалы за линию фронта, в которые без тщательного и глубокого изучения поверили в Москве. Правда была восстановлена только в конце 50-х годов. Минские подпольщики полностью реабилитированы.[176]
Там, где обстановка на фронтах как-то позволяла осуществлять организацию подполья, проводилась определенная работа, в виде подбора нужных кадров и их краткого инструктажа до отхода Красной Армией из восточных районов БССР.
В Витебской области, в течение немногим более недели (со 2–3 июля), партийным органам удалось создать семьдесят две подпольные организации. В Богушевском районе оставили для работы в тылу врага шестьдесят коммунистов для создания в сельсоветах и райцентре подпольных организаций, формирования партизанского отряда и скрытых боевых групп. Более шестидесяти человек, во главе с секретарями Железнодорожного райкома КП(б)Б И.Г. Григорьевым и Б.К. Семеновым, остались в Витебске для подпольной работы. В основном, это были рабочие промышленных предприятий города и железнодорожного узла. Гитлеровцы захватили Витебск 10 июля.
В западные районы области, уже оккупированные гитлеровцами, для организации подполья и партизанских отрядов, обком направил своих уполномоченных. Это быстро дало результаты. В июле-августе в Витебске возникли, по опубликованным данным, одна диверсионная и тринадцать подпольных групп. Они сумели объединить в своих рядах, не менее ста тридцати двух человек. На их основе, с учетом их опыта, в годы войны в Витебске действовали шестьдесят шесть подпольных групп, с общей численностью полторы тысячи активных членов. Подполье понесло тяжелые потери от ударов фашистских спецслужб – погиб каждый третий подпольщик.
В Могилевской области к концу июля создано восемьдесят пять подпольных партийных организаций, с общей численностью триста девяносто девять коммунистов (в среднем 4–5 человек в организации). В августе-сентябре 1941 года группы действовали на железнодорожном узле, на хлебозаводе, на авторемонтном заводе, в госпитале, в котором лечилось около тысячи раненых воинов.
Огромную роль в организации и деятельности Могилевского подполья сыграл К.Ю. Мэттэ, учитель средней школы № 25 города Могилева. Он привлек к подпольной борьбе многих преподавателей школ и членов их семей, а также преподавателя Гомельского лесотехнического института Г.И. Крисевича, который стал ближайшим помощником по созданию подпольных групп. В дальнейшем, весной 1942 года, около сорока групп, с численностью четыреста членов, объединились в подпольную организацию «Комитет содействия Красной Армии», который возглавил К.Ю. Мэттэ, а с марта 1943 года – Г.И. Крисевич. Кроме основного состава, в каждой группе был актив, который помогал осуществлять отдельные задания, борьбу с оккупантами вели более тысячи человек. Благодаря внимательности, осторожности, надежной конспирации и удачной структуре организации могилевскому подполью долгое время удавалось избегать массовых провалов и арестов.
В Полесской области успели создать сто семьдесят шесть территориальных подпольных партийных организаций (172 в районах и 4-е в областном центре ‑ Мозыре). Гитлеровцы захватили Мозырь только 22 августа, а к концу месяца оккупировали всю область. В сентябре подпольную группу в Мозыре создали В.И. Крицкий (погиб), М.Ю. Моисеев (погиб), А.И. Савич. Подпольщики сумели устроить Крицкого бургомистром Мозыря, Моисеев стал заместителем бургомистра по Мозырскому району, подпольщица А.Г. Попратинская (погибла) – переводчицей в гебитскомиссариате. С их помощью подпольщики спасали советских граждан от вывоза на каторжные работы в Германию, срывали мероприятия оккупационных властей. Они передавали партизанам медикаменты, продовольствие, предупреждали о карательных операциях. В октябре 1941 года создана подпольная группа Д.А. Козловского и С.П. Ракитского. Подпольщики передавали партизанам оружие и боеприпасы, вели политическую агитацию среди населения.
Следует сказать об Оршанском подполье. Уже 16 июля, в день захвата Орши гитлеровцами, часть патриотов, оставленных для подпольной борьбы, собрались на заранее подготовленной базе у поселка Осинторф. Здесь был избран партийный центр по организации и руководству подпольем в городе и районе, в составе Л.Н. Анкимовича, А.Т. Сковороды, А.Г. Шабарина. Было решено, что Сковорода и Шабарин проникнут в Оршу и там организуют борьбу патриотов, а Анкимович, поддерживая с ними постоянную связь через проверенных людей, будет выполнять те же задачи в сельской местности. Собрание также приняло решение о создании двенадцати территориальных зон, за каждой из которых закреплялись организаторы. В августе, в условиях строгой конспирации, Оршанские подпольщики провели несколько узких совещаний по вопросам организации и расширения подпольной борьбы в городе и районе. В результате в Орше и районе, к концу 1941 года, насчитывалось более двадцати подпольных организаций и групп, а всего в годы оккупации здесь боролись около восьмидесяти подпольных групп, включавшие в свой состав пятьсот двадцать коммунистов и комсомольцев и триста человек беспартийных. В июле-сентябре 1941 года начали действовать первые подпольные группы на железнодорожном узле (руководители К.В. Гречиха, М.П. Кузьмин, Е.М. Шамшурева), из бывшего рабочего льнокомбината И.К. Петроченко, в типографии – А.П. Николаев, в лагере военнопленных – В.А. Марчак. Возникали в это время подпольные группы и в сельской местности: в деревне Большое Село, деревнях Высокое, Девина, Шибеки, в поселке Юрцево. Подпольщики вели политическую работу среди населения, принимали по радио, переписывали и распространяли сводки Совинформбюро, проводили диверсии. Комсомольская подпольная группа, во главе с М.П. Кузьминым, к осени 1941 года имела в своем распоряжении радиоприемник, двадцать пять винтовок, несколько тысяч патронов, пятьдесят две гранаты, ручной пулемет. Позже оружие передали партизанам. Оккупационные власти и спецслужбы фашистов наносили подполью серьезные удары. Им помогали провокаторы, местные предатели, и слабая конспирация подпольщиков. В борьбе с оккупантами погибла почти половина подпольщиков, в том числе Анкимович, Коробкина, Сковорода, Петроченко и многие другие. Однако, несмотря на тяжелые потери, оршанское подполье продолжало действовать и бить противника вплоть до освобождения Орши Красной Армией в июне 1944 года.
На работе подполья отрицательно сказывалось отсутствие устойчивой связи с руководящими органами за линией фронта. Иногда даже на территории одной области подпольные партийные органы и патриотические организации не были связаны друг с другом. Неоднократно предпринятые попытки ЦК КП (б) установить контакты с руководителями подполья направляя через линию фронта специальных делегатов связи, не принесли желаемых результатов. Посланные летом-осенью 1941 года двенадцать человек из Гомеля и тридцать человек из Брянска, в большинстве своем, не вернулись. Малоэффективным оказались и попытки подпольщиков наладить связь с руководящими органами за линией фронта. Посланные с этой целью связные, часто гибли при переходе фронта или в немецкой прифронтовой полосе, насыщенной войсками Вермахта.[177]
Наряду с созданием подпольных групп и патриотических организаций, сбором оружия, боеприпасов, медикаментов, помощи в освобождении военнопленных из лагерей, укрытия, лечения раненых и больных красноармейцев, а также командиров Красной Армии, сборе и передаче разведывательных данных советским войскам, подпольщики, уже летом – в начале осени 1941 года, стали проводить боевые операции против оккупантов. В первую очередь, на транспорте (об этом частично сказано ранее). Так, 17 июля, руководитель подпольной группы на Гродненском железнодорожном узле (Белостокская область) коммунист Н.Н. Богатырев произвел на участке Лида–Гродно крушение двух встречных поездов. Оказались разбитыми два паровоза и восемнадцать вагонов. Движение было задержано на тридцать часов. Рабочие – подпольщики, под руководством машиниста В.И. Петровского, проводили диверсии на железнодорожном узле Лида (Барановичская область): они сыпали песок в буксы паровозов и вагонов, в результате чего транспортные средства быстро выходили из строя, некачественно их ремонтировали, портили инструменты и материалы, затягивали приведение в порядок техники. Не менее активно действовали подпольщики в восточных областях республики. Только подпольная группа М.С. Шведова (депо на станции Осиповичи Могилевской области) за август-ноябрь 1941 года вывели из строя двенадцать паровозов. В августе Оршанские подпольщики (Витебская область) И.К. Петроченко, С.П. Котов и другие подорвали временный мост через реку Днепр, наведенный гитлеровцами для переправы своих войск. Машинист В.М. Кашин, в результате осуществленной им диверсии, на сутки остановил движение на стратегической железной дороге Минск–Москва.[178]
Подпольщики наносили удары оккупантам не только по железным дорогам, но и по автотранспортным коммуникациям. Чтобы помешать движению автомашин врага в окрестностях города Добруша (Гомельская область), члены одной из подпольных групп, по совету своего руководителя Н.С. Кулакова, стали разбрасывать на дорогах ежи из колючей проволоки. При этом выбирались участки, где объезды были затруднены. В результате создавались «пробки». Так продолжалось в течение августа-сентября. В конце концов, гитлеровцы были вынуждены пускать впереди автоколонны тягачи, что задерживало продвижение. Около Минска группой подпольщиков, во главе с И.К. Кабушкиным, в октябре 1941 года на дорогах Минск–Логойск, Минск–Столбцы, уничтожили семь легковых и грузовых машин и бензоцистерну, убили шестнадцать вражеских солдат и офицеров. Подпольщики Суражского района (Витебская область) сожгли две автомашины с горючим и потопили паром на реке Западная Двина. Проведенными диверсиями, подпольщики серьезно нарушали работу железнодорожного и автомобильного транспорта противника, ставили по удар его военные перевозки.
Сотни и тысячи тонн срочных грузов, целые воинские подразделения застревали в пути, что срывало бесперебойное снабжение войск Вермахта.
Освещая борьбу патриотов Белоруссии, Совинформбюро 9 сентября 1941 года сообщало, что в городе Барановичи, в течение августа и за первые дни сентября, убито тридцать семь фашистских офицеров, двенадцать германских чиновников из органов городского управления и более восьмидесяти солдат. Такие же сведения поступали из Витебска, Мозыря, Бреста и многих других городов, оккупированной Белоруссии. Умело использовалось в борьбе с фашистами такое простое и могучее оружие, как огонь. В Белостоке патриоты подожгли и уничтожили три немецких армейских склада, в Вилейке ‑ взорвали два склада с боеприпасами, в Бресте ‑ подожгли большой продовольственный склад. В целом, по далеко не полным сведениям, поступившим в ЦК КП(б)Б в январе 1942 года за лето-осень 1941 года партизаны и подпольщики Белоруссии смогли нанести захватчикам значительный урон в живой силе и военной технике, сильно осложнить использование транспортных коммуникаций и линий связи, подрывало и боевые возможности Вермахта, и моральный дух его военнослужащих. Патриоты смогли уничтожить около девяти с половиной тысяч солдат и офицеров противника, тридцать три самолета, семьдесят восемь танков и броневиков, сорок пять орудий, примерно, тысячу автомашин. Были взорваны или сожжены сорок два железнодорожных и сто тринадцать шоссейных мостов, шестьдесят три склада с боеприпасами и горючим, разрушена телефонная и телеграфная связь, протяженностью сто шестьдесят восемь километров, разгромлены девять штабов воинских частей и соединений Вермахта, включая штабы дивизий и корпусов. И это было только началом, только первыми искорками разгорающейся в тылу захватчиков народной войны в Белоруссии в 1942–1944 годах.[179] У людей было главное – патриотизм, ненависть к захватчикам, осознание справедливого характера войны с нашей стороны и готовность к самопожертвованию ради победы над фашистской Германией, уверенность в нашей конечной победе.
Жестокая и беспощадная борьба, с сильным, хорошо вооруженным многочисленным и опытным противником, потребовала от патриотов значительных жертв. Летом-осенью 1941 года погибли в боях с карателями несколько тысяч партизан, были разгромлены десятки партизанских отрядов и групп. Большие потери понесли и подпольщики. Так, из девяноста семи членов Мирского подполья погибли двадцать девять, из тридцати пяти патриотов Лиды – двадцать один, из, примерно, восьмисот двадцати членов Оршанского подполья ‑ почти половина. Многие подпольные организации и группы были уничтожены полностью.[180]
Однако никакие кровавые репрессии, никакие отдельные поражения не могли сломить волю белорусского народа к защите своей свободы и независимости. На смену павшим приходили новые патриоты.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
ВМЕСТЕ С ВОЮЮЩИМ НАРОДОМ
Место, роль и вклад чекистов и сотрудников НКВД Белоруссии в народную борьбу летом 1941 года с фашистскими агрессорами до сего дня хотя и освещены, но, на наш взгляд, недостаточно. А ведь в борьбе с фашистами принимали участие несколько тысяч сотрудников госбезопасности и наркомата внутренних дел БССР, многие из них погибли, пропали без вести. Они активно участвовали в деятельности истребительных батальонов и отрядов народного ополчения, входили в состав возникавших подпольных патриотических организаций, создании и боевой работе первых партизанских отрядов, участвовали в разгромах коммуникаций врага, в обороне Брестской крепости, а также Минска, Витебска, Могилева, Пинска, Борисова и других населенных пунктов.
О некоторых фактах мы уже писали в предыдущих главах, посвященных, как предвоенному времени, так и оборонительным боям Красной Армии на территории республики, началу партизанского и подпольного движения, борьбе с авиадесантами и диверсантами врага в прифронтовой полосе, помощи в организации эвакуации. В основном, показывают героическую борьбу сотрудников НКГБ–НКВД на примерах успешных действий спецгрупп в 1943–1944 годах, немного говорится про 1942 год и совсем мало о второй половине 1941 года.
Попытаемся это хоть немного исправить, опираясь на уже опубликованные источники, которых откровенно мало, и они часто носят фрагментарный характер.
История показывает, что органы НКГБ–НКВД БССР действовали с полной нагрузкой. В январе – начале лета 1941 года число задержанных или уничтоженных вражеских агентов пограничными частями (они входили в систему НКВД) увеличилось в разы. Количество забрасываемой в Советский Союз немецко-фашистской агентуры увеличилось в 1940 году по сравнению с 1939 годом почти в четыре раза, а в 1941 году, по сравнению с 1939 годом, число вражеских агентов, направляемых в места дислокации советских войск и в тыл Красной Армии, выросло в четырнадцать раз. Забрасываемые в СССР, шпионы и диверсанты, снабжались оружием, взрывчатыми веществами, специальными средствами для террористических актов, коротковолновыми приемо-передающими радиостанциями, шифрами, воинскими и гражданскими документами. По имеющимся данным, пограничники обезвредили, сдерживая волну заброски агентуры противника, в январе-марте 1941 года в 15‑20 раз больше по сравнению с первым кварталом 1940 года, в апреле-июне 1941 года уже в 25–30 раз больше, по сравнению с таким же периодом 1940 года.
Часто пограничники устраивали засады на фашистскую агентуру и вступали в «огневой контакт» с группами врага, нередко переодетых в форму бойцов и командиров Красной Армии. Например, в апреле 1941 года, вблизи Августова (Белостокская область) при переходе государственной границы была с боем захвачена диверсионная группа из шестнадцати человек. Эта группа, в нарушение международного права, была одета в форму саперных войск Красной Армии. Во время перестрелки одиннадцать диверсантов были убиты, а пятерых взяли в плен. Но пограничникам далеко не всех вражеских агентов удавалось ликвидировать или захватить живьем. Их было много, они были хорошо обучены и вооружены, они часто использовали контрабандистов и местных жителей, которых подкупом или угрозами, заставляли тайно переводить через границу своих агентов на территорию СССР.
Советские чекисты выявляли расположение отделений и разведпунктов Абвера, СД, немецкой пограничной полиции. В результате, во многих случаях, становились известны явочные квартиры, резиденты гитлеровской разведки, агенты-вербовщики, должностные лица немецких спецслужб. Еще в декабре 1940 года Нарком НКГБ Белоруссии сообщил Пономаренко о тридцати отделениях и разведывательных пунктах фашистов, находящихся в полосе ответственности 86-го, 87-го, 88-го, 89-го погранотрядов на границе с Польшей и занимающихся заброской агентуры на территорию СССР. В сводке № 1 НКВД БССР от 12 февраля 1941 года, о дислокации и деятельности германских разведывательных органов, контрреволюционных националистических организаций и германской пограничной полиции, приводились адреса отделений гестапо в городах Люблине, Сувалках, местечке Немержара (у границы с Литовской ССР), давалась подробная характеристика разведывательных пунктов в городах Тирасполе, Бяло-Подляске, Сувалки, Остроленка, их руководителей и сотрудников. На наш взгляд, вызывает сомнение, что разведработой на советской территории занимались филиалы гестапо (тайной государственной полиции), деятельность которого распространялась только на территорию собственно Германии, а не на оккупированные территории. По всей вероятности, авторы сводки № 1 имели в виду СД (внешняя политическая разведка и контрразведка нацистской партии), в которой служили и ряд сотрудников гестапо. Разведка НКВД БССР выявила дислоцированные в пограничной полосе германские армейские разведпункты, ведущие разведку территории СССР, по первичным данным, называемых Фербендунг-Штелле (информационное бюро) которые являлись, по материалам сводки, передовыми органами армейской разведки.[181]
Поэтому ошибочным будет считать, что советская разведка и контрразведка почти ничего не знали, и нападение нацистской Германии на Советский Союз для них было совершенно неожиданным. Другое дело, что и как предпринималось в условиях надвигающейся войны.
В мае 1941 года и, в связи с обострением обстановки, личный состав подразделений органов госбезопасности уже работал в условиях «особого положения» (то есть предвоенного периода и периода начала боевых действий). На случай войны в МП-41 (мобилизационный план 1941 года) вместе с другими были внесены изменения и в кадровую расстановку Наркомата госбезопасности. Стал накапливаться мобилизационный материальный запас. Однако, в целом, данная работа проводилась далеко не так, как хотелось бы. Не хватало профессионально подготовленных кадров, которым в результате необоснованных, в большинстве случаев, массовых политических репрессий в 1937‑1938 годах, был нанесен серьезный урон. Медленно шло накопление необходимых ресурсов для готовности к войне. На эту подготовку плохо влияло личное отрицательное отношение к мобилизационным мероприятиям НКВД-НКГБ БССР наркома госбезопасности Белоруссии Л.Ф. Цанавы.
Вот что пишет белорусский исследователь А.К. Соловьев: «Как теперь стало известно, Л.Ф. Цанава и его окружение по наркомату не учитывали реальных условий в республике, складывающихся накануне войны. Несмотря на достоверные сведения, полученные чекистами Белоруссии и других подразделений разведки, Л.Ф. Цанава, другие руководители республики проявляли нерешительность и ждали указаний «сверху». … Лишь после разделения НКГБ БССР (в феврале 1941 года) на Наркомат внутренних дел и Наркомат государственной безопасности, было дано распоряжение о разработке нового мобилизационного плана 1941 года.
Основная ошибка МП-41 НКГБ БССР состояла в том, что в нем отсутствовал такой важный элемент, как оценка вероятной военной обстановки в случае нападения фашистской Германии. Но календарные планы расстановки руководящего и оперативного состава и мероприятия, направленные на борьбу с вражескими десантами с начала войны, оказались нереальными. В них отсутствовала возможность использования сотрудников контрразведки непосредственно на оккупированной врагом территории, в случае отхода частей Красной Армии и некоторые другие элементы.
Считалось, что части Красной Армии будут вести наступательные бои и действовать на территории неприятеля. Причем, иные приготовления с учетом зафронтовой деятельности на собственной территории захваченной врагом, расценивались Л.Ф. Цанава, как акции пораженчества и предательства».
Некоторая помощь, в подготовке органов госбезопасности к деятельности в случае начала войны, была оказана внесением единственной поправки в МП-41 26 мая 1941 года, принятой постановлением правительства «Об организации на территории Белоруссии постоянных групп и отрядов по уничтожению авиадесантов противника». Но времени для его реализации оставалось очень мало, момент мобилизационной подготовки, в плане обучения, был утерян. Материальное обеспечение таких групп и отрядов заранее не предусматривалось мобилизационными планами. Данные подготовительные мероприятия в Белоруссии осуществлялись еще до войны, но было уже поздно. Было и указание руководства НКВД‑НКГБ СССР «не поддаваться панике» и проводить все скрытно и постепенно».
Ошибочно предполагалось, что основная масса руководителей партизанского движения, при необходимости, может готовиться только после начала войны. На этот же период откладывались и основные мероприятия по организации партизанских штабов и непосредственный подбор, и формирование ими партизанских групп и отрядов, в том числе и подразделений специального назначения органов госбезопасности. Поэтому к практическому созданию специальных подразделений такого рода приступили лишь в 1941 году. Эта работа проводилась не оперативно, теоретическая разработка использования в боевых действиях частей специального назначения (СПЕЦНАЗа) только начиналась.
К началу агрессии нацистской Германии против СССР формирование подразделений специального назначения фактически началось лишь в Западном, Киевском, Ленинградском и Одесском военных округах. Эту работу завершить не удалось, ее опередила война.
Проявила себя и недооценка военным командованием, руководством НКВД‑НКГБ, партийными органами самих вопросов организации боевой деятельности в тылу врага. Преобладала слепая уверенность в несокрушимости, непобедимости, огромной мощи Красной Армии, которая отобьет первый удар врага и перенесет боевые действия на территорию противника. Отсюда и имевшие место ошибки при подготовке органов госбезопасности республики к партизанской и подпольной борьбе в тылу агрессора, что привело к несвоевременному началу зафронтовой работы в захваченных врагом районах Белоруссии. В силу серьезных недостатков и упущений, в подготовке органов госбезопасности БССР к действиям в случае войны на оккупированной территории, сотрудники НКВД‑НКГБ были поставлены в трудные условия.[182]
Начало войны оказалось совсем не таким, каким планировалось и ожидалось. Враг оказался значительно сильнее, чем предполагалось. Приграничное сражение Красной Армией было проиграно, а западные, а вскоре и центральные районы республики, оккупированы фашистами. Фронт отодвинут под Витебск, Могилев, Гомель. Пришлось действовать без четкого плана, без необходимого учета имевшихся сил и средств, руководствуясь лишь самыми общими целями и задачами в смертельной схватке с Вермахтом и нацистскими спецслужбами.
Где и как провели последние часы мирного времени, 21 июня, руководители Белоруссии, ее Компартии и государственных органов, включая госбезопасность, а также военное руководство ЗапОВО? Ведь что-то можно было еще сделать для укрепления обороноспособности и отражения агрессора. В Москве заседало Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И.В.Сталиным, обсуждался, предложенный Тимошенко и Жуковым, проект директивы войскам. Руководство НКВД‑НКГБ СССР почти все было на своих рабочих местах или в Кремле. Не было только руководителей разведки Фитина и контрразведки Федотова. А в Минске Пономаренко, Цанава и другие руководитель республики участвовали в просмотре последних новинок кино в Доме офицеров, а командующий ЗапОВО Павлов, его заместитель И.В. Болдин и почти все руководство округа были в театре, где на сцене шла «Свадьба в Малиновке». Командующий 4-й армией Коробков, и его начальник штаба Сандалов тоже были в театре. Даже сообщения командующего 3-й армией В.И.Кузнецова из Гродно об очень тревожной обстановке на границе, а также начальника разведотдела округа полковника С.В.Блохина о том, что по информации на границе крайне тревожно и немецкие войска приведены в полную боевую готовность, не было принято во внимание. Хотя боевая готовность по линии военной контрразведки, штабов и командования пограничных и внутренних войск в территориальных подразделениях НКВД и НКГБ, в том числе и в Белоруссии, наряду с Украиной и Прибалтикой, была фактически объявлена в 21.30 21-го июня и это после трех предупреждений – 18-го, 19-го, 20-го июня. Игнорирование самых серьезных сигналов, удивительная «слепота» и «глухота», нежелание взять на себя хоть какую-то ответственность, проявить инициативу и разумную предосторожность – все это привело утром 22-го июня к самым трагическим последствиям.
П.А. Судоплатов ‑ один из руководителей госбезопасности СССР того времени, чудом уцелевший и выживший после пятнадцати лет заключения по «делу Берия» пишет в своих мемуарах: «20 июня, когда стало совершенно очевидно, что от начала войны нас отделяют считанные дни, я получил задание создать специальную группу…». Значит, в Москве в руководстве НКВД‑НКГБ, знали, и пусть запоздало, начали готовиться. В Минске же высшее руководство во многом игнорировало нависшую опасность. В результате, как об этом уже сказано в 10-й главе, спецгруппам Абвера и командам СД удалось захватить в Бресте, в Гродно, в Ломже, в Минске, в Могилеве многие важные документы госбезопасности и государственных органов, за что пришлось расплачиваться при организации партизанского движения, подпольной борьбы, создания разведывательных сетей.[183]
Война началась 22 июня, и началась в результате неспровоцированного, вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз и главный удар дивизий Вермахта пришелся на Белоруссию. Нужно было воевать теми силами и средствами, которые в это время были у НКВД‑НКГБ Белоруссии, несмотря на имеющиеся трудности и недостатки, на отсутствие во многом опыта и знаний, на крайне неудачное начало войны и быстрое продвижение врага. Главный упор, в складывающейся обстановке, органами госбезопасности был сделан на создание и направление в тыл противника первых чекистских партизанских отрядов для ударов по коммуникациям фашистских войск, для нанесения агрессору потерь в живой силе и боевой технике.
Перед войной штат сотрудников госбезопасности республики, по опубликованным данным, насчитывал три тысячи двести человек. Из них более двух тысяч двухсот являлись сотрудниками оперативного состава. В итоге правильно разработанных мобилизационных планов это можно и должно было явиться прочным организационным ядром партизанского движения на территории республики, уже захваченной гитлеровцами. Но действия были другими в самом начале войны. До июля 1941 года главные усилия белорусских чекистов были направлены на ликвидацию последствий налетов авиации врага на объекты НКГБ и НКВД БССР, а также на организацию оперативных групп и истребительных отрядов для борьбы с диверсантами и парашютистами противника. Несколько позже ситуация изменилась, в связи с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня, в которой было указано на необходимость создания в прифронтовых областях, в случае их захвата фашистами, партизанских отрядов. Однако время было уже упущено. Западная и центральная часть Белоруссии уже были оккупированы.
В этих условиях начал действовать, переехавший из Минска в Могилев, наркомат госбезопасности. В конце июня в тыл врага вышли первые чекистские партизанские отряды особого назначения, сформированные НКГБ БССР. В Могилевском парке в полевых условиях 26 июня, еще до директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б), организованы четырнадцать первых партизанских отрядов, общей численностью свыше тысячи человек (в среднем 70‑75 человек в одном отряде). Они состояли из сотрудников НКВД НКГБ, пограничников, советских гражданских лиц. В их состав также вошли оперативные работники госбезопасности, временно оказавшиеся. В силу сложившейся обстановки, в тылу врага и вышедшие через линию фронта на нашу сторону. Отряды были направлены в некоторые районы Минской (4-е отряда), Витебской (3-и отряда) и Могилевской (7-м отрядов) областей перед оккупацией их войсками Вермахта. В каждый отряд, по решению партийных органов, включались и ответственные сотрудники советского и партийного аппаратов. Несмотря на недостаточную подготовку личного состава и слабость вооружения, отряды оказались мобильными и многие дошли до районов предстоящей боевой деятельности. Командирами отрядов назначались опытные чекисты, часть из них имела постоянную связь с перешедшими на подпольную работу комитетами Компартии Белоруссии. В их числе были заместители начальников управлений госбезопасности по Барановичской области Н.С. Зайцев, по Белостокской области С.В. Юрин, начальник отдела по Барановичской области К.А.Рубинов, начальники городских и районных аппаратов. Перед отрядами стояли задачи развертывания разведывательной и боевой деятельности в тылу противника, организации контрразведывательной защиты создающихся партизанских сил.
Эти отряды, организованные в Могилеве, за время своей деятельности на оккупированной территории, в основном, выполнили свое назначение и нанесли немалый ущерб фашистам в живой силе и технике. Однако, в силу недостатков в боевой подготовке, недостаточному материально-техническому обеспечению, неподготовленности к длительной борьбе в тылу врага, они не смогли решить проблему по созданию стабильной структуры чекистских подразделений, способных в течение длительного времени вести постоянную борьбу с захватчиками. Например, для успешного перехода на нелегальное положение и действий в условиях конспирации, партизанские отряды и опергруппы НКГБ остро нуждались в гражданской одежде. Командир Шкловской группы (Могилевская область) С.Г. Коба сообщал наркому НКГБ, что его отряду удалось получить в Шклове только три гражданских пальто на девяносто восемь человек. Остальные были одеты в чекистское обмундирование. О какой секретности можно было говорить! Да и у местных жителей такая форма не всегда и не у всех вызывала положительные эмоции.
В тыл врага направлялись не только специальные чекистские партизанские отряды, но и группы. Так была создана группа из двадцати трех человек – работников НКГБ и НКВД центрального аппарата и курсантов межкраевых школ, из которых 5 июля шестнадцать человек были заброшены в районе Тимковичи–Несвиж, двое ‑ в районе Барановичей. По одному разведчику выбросили в населенные пункты Дзержинск, Заславль, Старобин, Слуцк, Осиповичи, Минск, Борисов, Смолевичи, Логойск, Лепель, Ушачи, Дрисса, Березино, Бобруйск Минской, Могилевской и Витебской областей. Их задачей было установить места скопления и рода войск, виды вооружения, направления движения частей противника, а также выяснение вводимого немцами оккупационного режима на занятой территории. Остальных разведчиков планировалось выбросить в тыл противника в ближайшее время.
Например, для проведения диверсионной работы в местах, которые могут быть захвачены противником, подготовили к 5 июля восемь резидентур из числа штатного негласного состава и проверенной агентурно-осведомительной сети НКГБ БССР и УНКГБ по Витебской области. Во избежание одновременного провала эти резидентуры не должны были быть связаны с партийными подпольными организациями. Они действовали самостоятельно, изыскивая пути встречи с работниками госбезопасности для сообщения о проделанной работе и получения задания (у резидентуры не было раций). Такие резидентуры были организованы в Витебске, Орше, Дубровно и по линии железной дороги.
Такая система была несовершенна: с одной стороны, хорошая конспирация и защита от провалов при раскрытии гитлеровскими спецслужбами подпольных партийных и комсомольских организаций, с другой стороны, при быстром перемещении линии фронта запаздывала и часто прерывалась передача добытых сведений.[184]
Продолжали организовывать и посылать специальные чекистские партизанские отряды и группы и в дальнейшем. За последующий летний период 1941 года НКГБ республики сформировал, подготовил и переправил в тыл врага пятнадцать таких отрядов, насчитывавших в своих рядах семьсот пятьдесят восемь человек (в среднем 50 человек в одном отряде). Из них: в Вилейскую область – 3 отряда (62 бойца), в Витебскую – 1 отряд (128 бойцов), в Гомельскую – 2 отряда (59 бойцов), в Минскую – 3 отряда (198 бойцов), в Могилевскую – 3 отряда (252 бойца), в Пинскую – 2 отряда (32 бойца), в Полесскую – 1 отряд (27 бойцов). Если о семи таких отрядах, под командованием С.В. Юрина, Ф.И. Пашуна, Н.Я. Ермаковича, А.Иванова, М.С. Голдырева, А.Козлова, А.З. Духанина, в научной исторической литературе есть хоть какие-то данные, то об остальных не известно ничего. Понятно, что судьба и отрядов, и их личного состава, сложилась трагически, иначе информация о них появилась хотя бы уже после войны.
В условиях сложной, часто меняющейся обстановки на фронте, жестоких боев и отступления Красной Армии, установления беспощадного оккупационного режима с первых дней захвата, перед чекистскими партизанскими отрядами ставилась задача ‑ подрывать или сжигать железнодорожные и шоссейные мосты, уничтожать линии связи, ликвидировать воинские склады с боеприпасами, горючим, вооружением, нанесения ударов по штабам и мелким подразделениям Вермахта. При переброске в тыл врага отряды отличались не только количественным составом (в отряде Юрина – 100 человек или 96 (по разным источникам), а у Голдырева – 15 человек, но и тем, как были вооружены бойцы. В три западные области – Брестскую, Белостокскую, Барановичскую такие отряды в связи с быстрой оккупацией в конце июня и значительным удалением от линии фронта не посылались.
В целом, анализ документов и публикаций показывает, что количество специальных чекистских партизанских отрядов, действовавших на оккупированной противником территории БССР, должно быть уточнено. Так, в Дубровенском районе (Витебская область) в 1941 году сражались бойцы отряда Н.И. Тарелко и Соколова; в Лельчицком и Туровском районах (Полесская область) бойцы отрядов Аксенова, М.А. Сорокина и Крылова, которые в августе-сентябре объединились в один.
Исходя из опыта первых недель войны, требовалось объединить кадровый потенциал и действия наркоматов госбезопасности и внутренних дел. Указом Президиума Верховного Совета от 20 июля 1941 года объединились органы НКГБ и НКВД под общим названием НКВД. Главой НКВД был назначен Л.П. Берия (до объединения возглавлял НКВД СССР), а его первым заместителем назначен Меркулов (до объединения возглавлял НКГБ СССР). В Белоруссии НКВД возглавил Цанава (до объединения руководил НКГБ БССР). Так было ликвидировано ошибочное решение о разделении в феврале 1941 года единого ведомства на два – НКВД и НКГБ. Органы военной контрразведки с начала войны были выведены из подчинения Наркомата Обороны СССР, преобразованы в Особые отделы и подчинены НКВД в связи с решением Государственного Комитета Обороны СССР от 17 июля 1941 года. Приказом НКВД БССР № 9 сотрудники объединенного НКВД вошли три областных Управления: Гомельское, Могилевское и Полесское. Хотя нарком НКВД БССР был назначен 19 июля начальником Особого отдела НКВД Западного фронта, он продолжал курировать оккупированную территорию Белоруссии в опоре на систему органов военной контрразведки (Авторы – далее по тексту для краткости и точности подразделения, группы и отряды госбезопасности и внутренних дел, сражавшиеся в республике, именуются ‑ НКВД Белоруссии).
Ряд посланных 26 июня чекистских партизанских отрядов не смогли выполнить поставленные им задачи, объяснявшиеся отсутствием должной мобилизационной подготовки органов госбезопасности, в целом, и чекистских кадров республики, в частности, первые отрицательные по результативности действия заставили руководство анализировать их итог и вырабатывать наиболее правильные решения. В июле-сентябре 1941 года было признано необходимым наличие в тылу захватчиков мелких, по численности личного состава, спецотрядов и групп НКВД. Они оказались более мобильными и менее уязвимыми. Поэтому до октября чекисты создали и направили за линию фронта в тыл врага, сорок пять оперативных групп с численностью 1 259 сотрудников (в среднем 27‑28 человек в одной группе). Они осуществляли сбор разведывательной информации, проводили отдельные боевые операции. В основной массе оперативные группы базировались в местных партизанских отрядах и, по мере получения сведений, выходили за линию фронта.
Перед ними ставились уже не только диверсионные и боевые задачи, но и требовалось оказание помощи партизанским группам и, направляемым партийными органами лицам, для создания партизанских отрядов и привлечения в них партийного, советского и комсомольского актива.
Улучшения требовала и разведывательная работа, так как в точной и оперативной информации о противнике остро нуждались штабы советских войск и командование партизанских отрядов.
На основе опыта первых боевых действий, принимались меры, специально учитывающие обстановку, в которой предстояла борьба. Командирам чекистских групп и отрядов НКВД категорически запрещалось выводить в тыл гитлеровцев личный состав в военной форме, рекомендовалось включать в свой состав патриотов из местных жителей. Предусматривались специальные способы маскировки и подробное инструктирование перед выходом в тыл врага всех участников чекистских подразделений.
Для активизации боевых действий в тылу фашистов в Белоруссии и организованной подготовки участников чекистских групп создаются разведывательные пункты в Гомеле, Жлобине, местечке Довск (недалеко от Смоленска). Хорошо зарекомендовали себя и созданные специальные группы разведки. Они комплектовались за счет опытных сотрудников органов госбезопасности республики. Организацией этих подразделений преследовалась цель достижения качества подбора кадров из лиц, не служивших ранее в органах НКВД. Работе белорусских чекистов помогла директива НКВД СССР, во исполнение которой в каждом аппарате контрразведки (включая особые отделы) создавались специальные подразделения, которым поручалась организация деятельности за линией фронта. Решающее влияние на качество и численный состав отрядов и групп специального назначения имело положение на фронтах и изменение обстановки непосредственно в тылу оккупантов.
Положительное влияние оказали и организационные меры по подготовке чекистов-партизан. В июле был решен вопрос о создании специальной школы по более тщательной подготовке разведчиков и подрывников из числа оперативных работников госбезопасности и сотрудников милиции. Первый выпуск слушателей школы состоялся 24 августа, второй был сделан 15 сентября, с общим количеством окончивших школу в 200 человек. Курсанты обоих выпусков прошли специализацию при НКВД СССР. Многие из них проявили себя хорошими разведчиками и минерами при обороне Москвы.
Наряду с этим, летом 1941 года были сформированы десять групп из числа оперативных работников госбезопасности, милиции и Могилевской межкраевой школы НКГБ–НКВД (численностью по 8‑9 человек каждая) и, как отмечалось в отчете НКВД БССР в ЦК КПБ(б) в сентябре 1941 года, посланы в оккупированные врагом районы Полесской, Гомельской, Минской, Витебской областей с задачей помочь в организации партизанского движения. Далее указывалось, что в последующем, до октября, будут дополнительно организованы и посланы восемнадцать чекистских партизанских отрядов и восемьдесят групп (численностью каждая от семи до пятнадцати человек).
Одну из таких групп, состоявшей не только из чекистов, но и из партийных и советских работников Осиповичского района (Могилевская область), оставленной в тылу врага в конце июня возглавил С.С. Сумченко, лейтенант госбезопасности, до войны работавший в Барановичской области. Эта группа 2-го июля встретилась и объединилась с группой работников НКГБ–НКВД, посланных Наркоматом для борьбы с десантами противника. В случае захвата территории Осиповичского и Кличевского районов фашистами, они должны были развернуть диверсионную деятельность. В составе объединенной партизанской группы были: начальник межрайотдела С.А. Мазур, старший оперуполномоченный И.А. Лебедев, оперуполномоченный И.С. Барбаков, начальник Слонимского городского отдела И.М. Стельмах. Объединенная группа в Осиповичском районе приступила к организации из местного населения, окруженцев и бежавших из плена бойцов и командиров Красной Армии трех партизанских групп. Наряду с этим шли поиски оружия и боеприпасов, необходимых для борьбы, вели пропагандистскую работу среди населения, велась диверсионная и разведывательная деятельность. Так, 28 июля группа партизан из чекистов и партийно-советского актива, под командованием Сумченко и Стельмаха, уничтожила бочки с бензином и керосином на Гродзянской нефтебазе, а 10 сентября группа, под руководством С.А. Мазура и председателя райисполкома Н.Ф. Королева, разгромила Гродзянский и Погорельский вражеские гарнизоны. Осенью 1941 года партизаны сожгли два моста на шоссе Минск – Бобруйск, пустили под откос эшелон с военной техникой. Позже командир группы погиб в бою с карателями.
Как действовали и как воевали, первые, посланные за линию фронта, специальные чекистские партизанские отряды и группы? Примером может служить, созданный из сотрудников НКГБ–НКВД, отряд, под командованием С.В. Юрина. Он был организован на пятый день войны, 26 июня, и направлен в Березинский район Могилевской области с заданием вести боевую работу и оказать помощь местным активистам в организации партизанского движения в тылу гитлеровцев. 3 июля отряд Юрина вел бой с подразделением фашистских войск, численностью до двухсот человек. Колонна врага была разгромлена и, по отчету НКГБ Белоруссии, сто пятьдесят гитлеровцев были уничтожены, а остальные рассеяны. Это ясно показало немалые военные возможности специальных чекистских партизанских отрядов, вселило боевой дух в бойцов и доказало оккупантам, что на белорусской земле их подстерегает неминуемая гибель.
После перехода фронта отряд, разбившись на ряд групп, проводил работу среди гражданского населения. Из числа местного актива – коммунистов, комсомольцев и беспартийных, на добровольной основе, были созданы двадцать шесть партизанских групп, общей численностью сто шестьдесят человек, которые оказывали отряду значительную помощь в проведении операций. В июле-августе, в ходе боев, были уничтожены еще около двухсот пятидесяти захватчиков, три танка, пятьдесят четыре автомашины. За организацию успешной борьбы с врагом С.В. Юрин был награжден высшей наградой – орденом Ленина.[185]
Значительный вклад в развитие партизанского движения Минской области в 1941 году внес чекистский партизанский отряд под командованием Ф.И. Пашуна. Прибыв в первых числах июля в заданный район – Слуцкий, отряд из тридцати двух человек приступил к созданию базы, поиску недостающего оружия и боеприпасов и вовлечению в свои ряды патриотов, так как первый боевой опыт показал, что успешно действовать малыми силами было трудно. К 18 июля за счет местных жителей и партийно-советского актива Слуцкого и Копыльского районов отряд увеличился вдвое и насчитывал уже шестьдесят три человека. Таким образом, отряд стал не чисто чекистским, а смешанным и руководствовался не только конкретными заданиями Наркомата, но и общими задачами народной борьбы против оккупантов. Партизаны этого отряда действовали на автогужевых дорогах Любань–Житковичи, Любань–Копаткевичи, на железнодорожной станции Уречье Слуцкого района. Они минировали дороги, сжигали мосты, уничтожали одиночные автомашины и мотоциклистов. Только 26 июля из засады, в районе деревни Постолы Житковичского района, были уничтожены сорок два фашиста. В течение трех недель в отряде находились секретарь подпольного Минского обкома партии В.И.Козлов и секретарь подпольного Слуцкого райкома А.И.Степанова. Члены подпольного обкома провели на базе отряда совещание с оставшимися в тылу противника коммунистами Любанского района. По указанию Козлова и Степановой отряд был разделен на два. Один, насчитывавший тридцать бойцов под командованием чекиста Е.Д. Горбачева, подчинялся непосредственно обкому, а второй, под командованием Ф.И. Пашуна, продолжил действовать самостоятельно, постепенно увеличивая свою численность. В декабре 1941 года из-за ударов карателей и тяжелых условий зимы группа отряда (50 человек) вместе с Ф.И. Пашуном вышла за линию фронта. Горбачев остался и 25 ноября 1941 года, для координации и руководства партизанским движением в Минской области, был создан штаб соединения, где Е.Д. Горбачев стал ответственным за организацию и деятельность разведки и контрразведки.
Успешно действовали специальные чекистские партизанские отряды и в Полесской области, куда они также были посланы. 14 июля начальник Василевичского райотдела НКВД А.З. Духанин был вызван в Мозырь (в то время центр Полесской области) и получил приказ создать отряд из числа чекистов для действий в тылу противника на основе созданного и действующего истребителного батальона. Готовились основательно. В одном из лесных массивов будущие партизаны заложили тайники с продовольствием и боеприпасами, изучили район действий. 10 августа они, в Полесском обкоме партии, сдали на хранение свои партийные и служебные документы. Когда 18 августа гитлеровцы ворвались на территорию района, то чекисты уже 20 августа взорвали мост через реку Днепр, позднее повредили двести метров телеграфно-телефонной связи. В том же районе должен был действовать партизанский отряд под командованием А.А. Козлова, насчитывавший пятьдесят человек. Отряды объединились для более успешных действий. Командиром вначале был Козлов, затем Духанин. Но нашелся предатель, который выдал врагу не только месторасположение отряда, но и базу с продовольствием партизан. Пришлось срочно уходить. Каратели неоднократно пытались уничтожить партизан, но те в ходе одного из боев убили и ранили двадцать гитлеровцев, еще пятерых подорвали на минах.
Из-за отсутствия должной экипировки, пришлось отправить по домам часть больных бойцов, а остальные передислоцировались в Лоевский район Гомельской области. Здесь они встретились с партизанским отрядом «За Родину» под командованием С.В. Дундукова и Г.И. Синякова. Обсудив сложившуюся обстановку (нехватка продовольствия и боеприпасов), часть чекистов решила продолжить борьбу в тылу врага, а группа из восьми человек в конце сентября направилась к линии фронта.
Какой конкретный урон нанесли противнику чекистские партизанские отряды летом 1941 года? Мы знаем это в общем виде, но за каждой боевой операцией стояли конкретные люди: и те, кто погиб в боях с карателями, и те, кто вынужден был осенью уйти за линию фронта, и те, кто остался и позже, в 1942–1944 годах, влился в местные партизанские отряды и бригады во всех десяти областных партизанских соединениях. Они стояли во главе формирований народных мстителей или создавали и руководили их подразделениями войсковой и агентурной разведки, контрразведки, работая по своей специальности.
Только за полтора-два первых месяца войны чекисты-партизаны в Белоруссии сумели подорвать два железнодорожных эшелона, семь железнодорожных мостов, разрушить свыше километра железнодорожного полотна, уничтожить семьдесят два шоссейных моста, более ста автомашин, повредить двадцать девять километров телеграфно-телефонной связи, разгромить три гарнизона, вывести из строя свыше семисот солдат и офицеров Вермахта, пять танков и две бронемашины. Были и потери. В этот трудный период начала войны погиб двадцать один чекист, тринадцать ранены, шесть пропали без вести.[186]
Теперь о сотрудниках НКВД вышедших в советский тыл и оставшихся для продолжения борьбы в тылу врага в составе партизанских формирований. Приблизительно из двух тысяч учтенных БШПД на 1 июля 1944 года сотрудников НКВД, за линию фронта вышло около пятисот человек (25%), а остальные – более полутора тысячи (75%) сражались в рядах партизан. Из них двадцать шесть чекистов были командирами или комиссарами партизанских отрядов и бригад, двенадцать начальниками штабов. Около половины начальников Особых отделов, заместителей командиров отрядов, бригад, соединений по разведке и контрразведке составляли чекисты.[187]
Так что, специальные чекистские партизанские отряды, посланные Наркоматом и ЦК КП(б)Б летом – начале осени 1941 года на захваченную врагом территорию Белоруссии для поддержки и развития партизанского движения в республике, для усиления его кадрового потенциала, выполнили поставленную задачу. Надо четко себе представлять и ясно понимать, что чекисты Белоруссии были вместе с народом, всемерно поддерживали его борьбу с оккупантами, участвовали в более сорока боевых операциях против врага. Но они были боевой силой, а организующая и направляющая роль принадлежала партийным, советским, комсомольским, как центральным руководящим органам, так и местным.
На захваченной Вермахтом территории Белоруссии люди самостоятельно начинали борьбу против иноземных вооруженных захватчиков и «нового порядка» гитлеровцев, против режима массовых расстрелов, виселиц, всемерного грабежа, ликвидации всех социальных достижений Советской власти. Это был протест против жутких концлагерей, лагерей для военнопленных, гетто, против превращения людей в бессловесных рабов. Пламя народной борьбы, несмотря на кровавые репрессии фашистов, охватывало все новые и новые территории и населенные пункты ‑ тысячи, а позже десятки и сотни тысяч жителей Белоруссии. Чекисты, их партизанские спецотряды и спецгруппы помогали борьбе народа, используя свой опыт, знания, военную подготовку, высокую организованность и дисциплину. Отсюда и довольно высокая эффективность их разведывательных и боевых операций.
Чекисты начинали вести и разведку, в первую очередь, переброски войск противника по железным дорогам. К сожалению, методам и способам сбора и добывания разведывательной информации о работе железнодорожного транспорта, сотрудников контрразведки накануне войны не учили. Азы разведывательной работы на транспортных магистралях приходилось постигать в боевой обстановке в процессе деятельности в тылу врага, что не могло не сказаться в первом периоде войны на сроках развертывания такой деятельности и ее эффективности. В самые первые дни войны организация работы по получению разведывательной информации об использовании противником транспорта представляла значительную сложность. Первая информация о воинских перевозках фашистских войск и резервов Вермахта получена в результате анализа сообщений 636 сотрудников органов госбезопасности республики, вышедших через линию фронта, а также от командования первых отрядов специального назначения, которые формировались в июле 1941 года в Могилеве. Наиболее полные достоверные данные, об интенсивных перевозках вражеских войск на Московском направлении, получены оперативным работником спецотряда Я.И. Шпилевого, действовавшего в Оршанском районе Витебской области в сентябре-ноябре 1941 года, в зоне участков железной дороги. Позже, в апреле 1942 года, для действий в тылу противника этот спецотряд, согласно указанию Центра, был реорганизован и из его состава сформированы восемь спецгрупп НКВД.
Проводили разведку и диверсии осенью и зимой 1941 года на железных дорогах и небольшие группы чекистов. Так, была создана в тылу гитлеровцев группа «Стрельцова» в составе девяти человек. Руководил ею М.И. Нестеренко. Группа действовала в Меховском, Городокском и Дриссенском районах Витебской области. Эта группа на железнодорожных линиях Себеж–Сураж, Езерищи–Бычиха подорвала семь вражеских эшелонов. В конце февраля 1942 года, вызванный в советский тыл для доклада Центру, Нестеренко погиб во время перелета. Данных о дальнейшей судьбе участников спецгруппы «Стрельцова» в архивах нет.
Никто не знает где и когда они погибли.
Добывала разведка и информацию стратегического характера. В сентябре 1941 года разведчики Витебской области, где активно действовали чекистские партизанские группы и отряды, передали через своего связного за линию фронта сведения о сосредоточении крупных танковых и авиационных сил фашистов перед наступлением на Москву и об ориентировочных сроках его начала. Связной, перейдя линию фронта, обратился в Особый отдел Западного фронта, которым тогда руководил нарком госбезопасности республики Цанава, посылавший чекистские партизанские подразделения, на захваченную врагом территорию республики, летом 1941 года. Эта информация о готовящемся наступлении была получена в результате удачной засады, в которую попала немецкая легковая автомашина с офицерами и штабными документами. К сожалению, у партизан в 1941 году не было радиостанций, и связной добирался до советских войск через линию фронта около двух недель. Ценнейшее время для принятия действенных контрмер против готовившегося командованием Вермахта удара на Москву было потеряно безвозвратно. Надо отметить, что засады партизан на дорогах Белоруссии были далеко не случайны. Уже в 1941 году партизаны получали необходимые для этого сведения от патриотов в оккупированных городах, райцентрах, железнодорожных станциях, в селах расположенных около транспортных коммуникаций.[188]
Чекисты Белоруссии по приказам Наркомата и указаниям ЦК КП(б)Б не только воевали в специальных партизанских отрядах, но и лично участвовали в создании, обучении и боевых действиях истребительных батальонов и отрядов народного ополчения, в их контрразведывательном обеспечении, в организации эвакуации предприятий и людей, в упорных боях с наступающими войсками Вермахта. В июле в Витебскую, Гомельскую, Могилевскую и Полесскую область для боевого укрепления семидесяти восьми истребительных батальонов, с общей численностью более тринадцати тысяч патриотов, было направлено пятьсот тридцать пять сотрудников НКВД. Они составляли только четыре процента от общей численности этих батальонов, но ценно было не их количество, а их знания, высокая дисциплинированность, воинская подготовка. Помогали чекисты и вооружению истребительных батальонов. Так, в июле, в Могилеве с областного склада НКВД, для созданных истребительных батальонов, были взяты пулеметы и семь тысяч винтовок. В восточных областях оружия остро не хватало.[189]
Подразделения НКВД стойко и умело защищали, наряду с другими советскими воинами, и Брестскую крепость (132-й конвойный батальон), и Минск, и Могилев, и Витебск. И, отходя из Витебска по приказу командования, смогли, несмотря на бронесилы и штурмовые группы врага, смогли взорвать два моста через реку Западная Двина и задержать тем самым продвижение соединений Вермахта. Ожесточенные бои на улицах Гомеля вела рота милиции, город упорно оборонял 53-й стрелковый полк войск НКВД, состоявший из четырех батальонов с более трех тысяч человек личного состава: 70% работники милиции, еще 30% сотрудники других служб НКВД.
Чекисты были направлены по решению ЦК КП(б)Б уже в первые формирующиеся партизанские группы и отряды с целью разведывательного и контрразведывательного их обеспечения. Но их было относительно мало по отношению к количеству личного состава этих отрядов из местных коммунистов, комсомольцев, советского актива. На восьмой день войны (29 июня) по постановлению ЦК КП(б)Б в тыл врага были направлены девятнадцать диверсионных групп, в каждую из которых входил сотрудник госбезопасности или милиции. 6 июля были созданы по решению ЦК КП(б)Б двадцать девять партизанских отрядов, состоявших из четырехсот шестидесяти коммунистов и комсомольцев, в том числе, сто пятьдесят чекистов, то есть до тридцати процентов личного состава отрядов. Для усиления только что созданных, небольших по численности, слабо обученных в военном отношении партизанских отрядов ЦК КПБ(б) 11 июля решает направить группы работников госбезопасности и милиции в ряд оккупированных районов и областей республики.
На территории Гомельской, Полесской (восточные области БССР) и Пинской (западная область БССР) действовали тринадцать заранее подготовленных партизанских отрядов, с общей численностью около пятисот человек, из них до шестидесяти чекистов. Так, в Полесской области в Мозырьском партизанском отряде из сорока человек – два чекиста, в Калинковичском отряде из тридцати пяти человек – пять чекистов. В каждом из двадцати семи партизанских отрядов (по другим данным 35 отрядов), воюющих в тылу врага в июле, был один или несколько сотрудников НКГБ и НКВД.
В Чечерском районе, Гомельской области, в августе 1941 года были созданы четыре партизанские группы численностью девяносто пять человек. Во главе групп было по одному чекисту. Одну из них возглавлял Н.А. Михайлашев, до войны сотрудник органов государственной безопасности в Пинской области. В Чечерском партизанском отряде он стал командиром отделения, взвода и, позже, заместителем командира отряда. С августа 1942 года ‑ заместитель начальника разведки отряда, затем бригады «Вперед» НКВД СССР. В апреле-июле 1944 года Н.А. Михайлашев был командиром специальной, действовавшей на территории Вилейской области, разведывательно-диверсионной группы «Буря», которая подорвала и пустила под откос сорок три вражеских эшелона с живой силой и военной техникой, а также один бронепоезд. 5 ноября 1944 года Н.А. Михайлашеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Наличие подготовленных и опытных чекистских кадров в партизанских отрядах и их выдвижение на различные командные должности в отрядах, бригадах и соединениях сыграло свою положительную роль. Например, в Калинковичском партизанском отряде заместителем командира отряда был начальник Калинковичского райотдела НКВД лейтенант госбезопасности А. Богданов, партизанской бригадой «Дядя Коля» командовал Герой Советского Союза капитан госбезопасности П.Г. Лопатин. Нахождение чекистов в партизанских отрядах во многом помогало оградить партизанские отряды от проникновения неустойчивых или случайных людей, а также от агентуры немецких спецслужб. Наличие подготовленных и опытных чекистских кадров в партизанских отрядах и их выдвижение на различные командные должности в отрядах, бригадах и соединениях сыграло свою сугубо положительную роль. По данным БШПД, в составе партизанских отрядов, бригад и соединений на территории Белоруссии с оккупантами сражались в годы войны одна тысяча восемьсот пятьдесят три сотрудника органов НКГБ–НКВД, территориальных, особых отделов Красной Армии, пограничных войск. Из них, по данным белорусского исследователя А.К. Соловьева, в разведывательных органах (они выполняли часто и контрразведывательные функции) партизанских формирований в 1941–1943 годах на территории республики работало пятьсот шестьдесят четыре сотрудника органов госбезопасности (в это число вошли и сотрудники военной контрразведки).
Чекисты, не щадя себя чекисты мужественно и самоотверженно сражались с противником на захваченной врагом территории Белоруссии.
Однако в 1941–1942 годах отрицательно сказывались на их борьбе отсутствие подготовки к развертыванию деятельности в тылу гитлеровцев на советской территории, явно недостаточное внимание к вопросам использования специальных партизанских групп и отрядов НКВД БССР. К тому же полное отсутствие радиосвязи и очень малое количество минно-подрывной техники, непродуманность нужной экипировки и отсутствие достаточного вооружения групп и отрядов НКГБ–НКВД. Сказывалась и слабая связь с местными партизанскими отрядами и подпольными патриотическими организациями, упор на использование только своей довоенной агентуры, о документы которой спецслужбы фашистов частично смогли захватить, в первые дни и недели войны. Не надо забывать, что в тылу группы армий «Центр» действовали сначала четыре, а вскоре и пять, и шесть охранных дивизий, многочисленные абверкоманды и группы, подразделения СД и ГФП, об использовании ими немалого числа провокаторов, изменников и предателей из числа местной «службы порядка» и оккупационного аппарата, лиц «пострадавших» от Советской власти, и хорошо знавших данную местность и ряд местных жителей, и к тому же сказывался жуткий массовый террор фашистов.
Так, в инструкции германского командования по Гомельской области (в других областях было аналогично) говорилось: «Любое враждебное поведение населения по отношению к немецким вооруженным силам и их организаций карается смертью. Кто укрывает красноармейцев или партизан, поддерживает их – наказывается смертью. Если партизан не нашли, следует взять заложников из населения. Их надо повесить: если виновники или их помощники в течение 24 часов не будут доставлены. В последующие сутки на этом же месте следует повесить их удвоенное количество».[190]
В итоге всех мер противодействия нацистских спецслужб и охранных соединений Вермахта, крайне мало или почти не известно о боевой деятельности в 1941 году некоторых групп и отрядов партизан – чекистов под командованием К.А. Рубинова (Могилевская область), К.С. Зайцева и А.Е. Василевского (Минская область), И.Калугина, Герасимова (Вилейская область). М.И. Сметанкина (Пинская область), М.А. Сорокина, В.А. Аксенова, Крылова, И.А. Головкина, Н.Ф. Богданова (Полесская область) и других.
Чекисты сражались до конца, нанося урон врагу и спасая местных патриотов. «Лучше умереть, сражаясь, чем жить на коленях» ‑ таков был их девиз. Так погиб чекист В.А. Ющенко – ему было всего 26 лет. После окончания специальной школы чекистов, куда он был направлен по партийной мобилизации в мае 1940 года, работал следователем управления НКГБ по Пинской области. В начале войны, как сотрудник органов госбезопасности Ющенко был оставлен на захваченной врагом территории и воевал в составе партизанской группы. В декабре 1941 года он вместе с командиром группы Н.М. Андроновым и подпольщицей Ю.М. Филончик прибыли в деревню Рудаково Хойнинского района Полесской области и расположились в здании машинно-тракторной станции (МТС), где намечалось собрание патриотов по организации партизанского движения в районе. Об этом стало известно оккупационным властям, которые быстро перекинули воинское подразделение и численный состав трех районных полиций и блокировали здание МТС. Партизаны были окружены, но отказались сдаться в плен, и приняли неравный бой. Противник понес значительные потери. Все трое партизан погибли в горящем здании. Пав смертью храбрых, они спасли своих товарищей. Эта жертва была не напрасной. Если в декабре 1941 года в области действовали пять партизанских отрядов, то уже в январе 1942 года их было двенадцать, а через год после этого боя, в декабре 1942 года их насчитывалось двадцать восемь.
В битвах с сильным, опытным и многочисленным врагом чекисты Белоруссии понесли значительные потери ‑ до 20% (относительно к их общей численности накануне войны, ‑ 3 200 сотрудников). Из этого числа 360 чекистов погибли в годы войны, 254 получили тяжелые ранения, 60 значатся в списках без вести пропавших. Для чекистов в борьбе с врагом главным были защита Родины, белорусского народа, помощь Красной Армии, партизанам и подпольщикам.[191]
Летом и осенью 1941 года, направляя чекистов для работы по их специальности в созданные истребительные батальоны и отряды народного ополчения, обучая будущих партизан на различных курсах, в Партизанской школе, в оперативно – учебном центре и его филиалах, НКГБ Белоруссии задействовал до восьмидесяти процентов всех своих кадровых сотрудников (данные приводятся по подсчетам авторов). Остальные в июле 1941 года перешли или в Гомельское, Могилевское, Полесское областные управления НКВД–НКГБ или были переподчинены структуре военной контрразведки (Особые отделы). Так, согласно списка, утвержденного заместителем Наркома внутренних дел СССР И.М. Коренчуком, 30 июля 1941 года, в Особый отдел (ОО) Орловского военного округа перешли сто семь сотрудников НКГБ БССР, в ОО Московского округа – 190, в ОО Западного фронта – 44. Надо отметить, что с 19 июля по 21 октября 1941 года нарком госбезопасности БССР Цанава был и начальником Особого отдела (ОО) Западного фронта, и, одновременно, продолжал курировать оккупированную территорию Белоруссии, опираясь на систему органов военной контрразведки. В то время в состав Западного фронта входили тринадцать армий, которые защищали главное, Московское направление. Состав сотрудников этого отдела (ОО) фронта комплектовался из работников территориальных органов безопасности, военных контрразведчиков, в том числе, и чекистов отошедших из западных областей.[192]
К концу 1941 года, по существу, перестал выполнять свои функции Наркомат госбезопасности БССР и, в связи с этим, 20 января 1942 года по инициативе Центра создается специальная оперативно – чекистская группа НКВД СССР по БССР, которая стала выполнять функции руководящего органа госбезопасности республики. Были образованы пять областных оперативных чекистских групп с общим количеством сто семьдесят девять человек оперативного состава: Витебская (54), Гомельская (47), Минская (16), Могилевская (50), Полесская (12). Эти группы были усилены еще и милицейским составом, численностью двести двадцать шесть человек. Перед группами была поставлена задача активизации разведывательно-диверсионной борьбы на оккупированной территории республики.[193]
В общем, чекисты Белоруссии летом-осенью 1941 года, несмотря на имевшиеся значительные трудности и недостатки, успешно справились с задачей эффективной борьбы с гитлеровскими захватчиками и внесли свой достойный вклад в дело общей нашей Победы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
СТРОГО СЕКРЕТНО – ОПЕРАЦИЯ «РОДИНА»
(ЛЕТО-ЗИМА 1941 Г.)[194]
Из воспоминаний старых заслуженных чекистов о малоизвестной странице борьбы советских контрразведчиков накануне, и в первые недели Великой Отечественной войны. Эту историю, а точнее ее фрагменты, рассказал Герой Советского Союза Станислав Алексеевич Ваупшасов В.К. Киселеву.
С.А. Ваупшасов был членом Минского подпольного горкома партии и с марта 1942 года по июль 1944 года командиром спецотряда «Местные», на базе которого было организовано тринадцать самостоятельных партизанских отрядов. Это была вторая и, к сожалению, последняя встреча В.К. Киселева с Ваупшасовым (он умер в 1976 году) с очень интересным, кристально честным и доброжелательным человеком – высоким, худощавым, с выбритой головой и серыми, вспыхивающими яркими искрами глазами, которые не смогли погасить более чем семьдесят прожитых лет. Его жизнь была полностью отдана защите Родины и завоеваниям революции идеалов и достижений справедливого общества. Сын батрака, в 1918 году в девятнадцатилетнем возрасте добровольно вступил в ряды рождающейся Красной Армии, с винтовкой в руках воевал на Западном фронте, обороняя страну от белогвардейцев и белопольских интервентов. В 1920–1925 годах руководил отчаянно дерзкими и успешными действиями партизанского отряда на территории Западной Белоруссии, силой захваченной буржуазно-помещичьей Польшей. В дальнейшем (с 1930 года) был на разведывательной работе. Являясь активным участником антифашистской борьбы в Испании в 1937–1938 годах выполнял боевые задания в борьбе против фашистских войск. В 1939 году, по возвращении в СССР, был направлен в органы государственной безопасности. В послевоенный период продолжительное время работал на руководящих должностях в МГБ–КГБ СССР.
Встречался В.К. Киселев с С.А. Ваупшасовым в Москве, когда Ваупшасов уже был на пенсии. И вот, в ходе ярких и четких воспоминаний, а говорил он ярко и образно, в основном о своих товарищах по борьбе, вдруг прозвучало несколько фраз об операции советской контрразведки в самом начале Великой Отечественной войны под общим условным названием «Родина»[195]. В.К. Киселев заинтересовался и попросил более подробно рассказать о ней. Подумав несколько минут, Станислав Алексеевич согласился, но взял с собеседника слово, что он ничего не будет записывать, ведь операция была совершенно секретной и никогда даже не упоминалась, ни в научных трудах, ни в художественных произведениях. По его мнению, о ней можно будет написать лишь лет через пятьдесят. А тогда шел 1975 год и очень ощутимо набирал силу так называемой «застой», чиновничий страх перед возможностью ошибиться, «промахнуться», вызвать собою неудовольствие власть предержащих, а по возможности, и выслужиться проявлением сверх бдительности. Шла, пусть и сдержанная, реабилитация И.В. Сталина и его ближайшего окружения. Все их ошибки, просчеты, злоупотребления властью, преступления против наших людей, репрессии загубившие тысячи командиров Красной Армии, многих честных чекистов и разведчиков полностью и исключительно возлагались только на органы Государственной безопасности и внутренних дел, их руководство.
То, что в органы, призванные охранять завоевания Революции и достижения Советской власти, успехи в строительстве новой жизни широко проникали беспринципные карьеристы, политические авантюристы, бездушные чиновники, это правда; что с их помощью во второй половине 30-х годов были истреблены 23–30 тысяч чекистов, многие из которых подняли голос или выступили против массовых нарушений законности – горькая, и тяжелая, правда. Но было в органах государственной безопасности при тогдашних вождях немалое количество честных людей, героев разведки и контрразведки, посланцев партийных и комсомольских комитетов, на деле боровшихся и часто побеждавших в тайной войне против агентов различных спецслужб врага, в первую очередь фашистских государств, это безусловная, правда. В условиях бескомпромиссной и беспощадной военной схватки ряда стран во главе с нацистской Германией с СССР в 1941–1945 годах эти кадры чекистов во многих случаях силой обстоятельств самой войны, выходили на первый план в деятельности Наркомата Госбезопасности, органов, как военной разведки, так и контрразведки «Смерш». Они внесли достойный вклад в общую победу многонационального советского народа над фашизмом, часто ценою собственной жизни. Ваупшасов С.А. был одним из немногих уцелевших чекистов того поколения. Он рассказывал о действительно стратегической операции советских контрразведчиков, в той или иной мере повлиявшей на судьбу битвы за Москву летом 1941 года и в целом на первый этап грандиозной войны, как бы передавал факел неугасимой эстафеты Правды в руки подрастающего поколения историков Великой Отечественной. На всю оставшуюся жизнь запомнились В.К. Киселеву строгие слова С.А. Ваупшасова: «Запомни, хорошенько запомни все, что я тебе скажу. И когда придет время, расскажи людям, если хватит смелости и веры. Ведь в этой операции, спасая все то, что бездарно провалили Сталин, Ворошилов, Берия, погибли многие и многие, иногда не зная даже, почему гибнут. Это наш долг перед их памятью».
Пришло время выполнить завещание Станислава Алексеевича и рассказать то, что он рассказал В.К. Киселеву, естественно, с дополнениями и фактами, почерпнутыми из опубликованных отдельных материалов, научных материалов и мемуаров. Сам С.А. Ваупшасов не ограничился своим рассказом, для большей полноты картины попросил известного в прошлом разведчика полковника Артура Карловича Строгаса принять В.К. Киселева, военного историка, для беседы. То был человек легендарной судьбы, и он являлся одним из активных участников операции «Родина». Потому он смог осветить некоторые ее эпизоды, а также во многом подтвердить сведения С.А Ваупшасова. Но условие действовало прежнее – ничего не записывать и опубликовать при первой реальной возможности. По ходу встреч дело было поставлено так, что никаких вопросов, даже уточняющего или разъясняющего характера нельзя было задавать, даже тогда, когда было ясно, что они рассказывали не все, особенно о некоторых деталях. Ваупшасов С.А. и Спрогис А.К. прошли очень жесткую и длительную школу в процессе своей работы в органах разведки и контрразведки, были представителями своего времени и своих понятий, что и откладывало свой отпечаток на их характер. Но основное, главное, они смогли, решились передать тайну будущим поколениям и за это им низкий поклон.
А.К. Спрогис умер в 1980 году. О нем следует сказать следующее. Родился в 1904 году, латыш, из семьи рабочего. С детских лет видел беспощадную эксплуатацию. В 15 лет добровольно вступил в Красную Армию. Бился с внутренней и внешней контрреволюцией на фронтах гражданской войны. Был курсантом Первых московских пулеметных курсов (одно из первых училищ по подготовке из числа отличившихся красноармейцев командных кадров для Красной Армии) и не раз стоял на посту № 27, охраняя Кремль. В 20-е годы служил на границе. В 30-е принимал участие в организации на территории Советской Белоруссии спецкурсов, где познакомился с С.А. Ваупшасовым, который вместе с Орловским, Коржом, Шмыревым и другими товарищами готовились к будущей партизанской борьбе в случае возможной империалистической агрессии против СССР. В 1936–1937 годах участвовал добровольцем в гражданской войне в Испании. Был назначен советником частей специального назначения. Но Спрогис не ограничивался этой ролью, а возглавил отряд разведчиков и непосредственно участвовал в боевых операциях. Разведчики Спрогиса взорвали вражеский пороховой завод, пустили под откос около двадцати военных эшелонов, проводили рейды по тылам фашистов, добывая секретные документы, и захватывая пленных. Он провоевал полтора года в Испании и за подвиги был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. После возвращения из Испании учился в военной академии имени М.В. Фрунзе, которую успешно закончил в 1940 году. В 1941–1942 годах являлся особоуполномоченным разведывательного отдела штаба Западного фронта. В 1943–1944 годах был начальником Латышского штаба партизанского движения. С 1945 по 1949 годы находился на преподавательской работе, где передавал свой богатый опыт молодым чекистам. С 1949 года на пенсии. И не столько по состоянию здоровья, сколько из-за резкого несогласия, по его словам, с проводимыми тогдашним руководством МГБ СССР формами и методами борьбы с вооруженными повстанцами и антисоветским подпольем в Прибалтике, в ходе которой пострадали тысячи невинных людей. За многолетнюю успешную деятельность по защите Советской Родины его наградили двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени и орденом Красной Звезды.
Прежде чем перейти к ходу самой операции «Родина», хотелось бы сделать несколько замечаний о некоторых активных ее участниках с целью большей ясности последующих событий. С.А. Ваупшасов никогда не говорил о прямом своем участии в этой операции, но и не отрицал возможности, что способствовал ее проведению, находясь за пределами СССР. Он сам пишет в мемуарах: «Полтора года провел я в капиталистической Европе, выполняя специальные задания… Картины гитлеровского Берлина, вооруженной фашистской Германии, спесивые, самодовольные нацисты, упоенные военными успехами, вызывали во мне жгучее отвращение. А угнетенные, но не покорившиеся народы пробуждали горячее сочувствие. Главные же мои мысли и чувства были там, где решалась судьба моей Родины (после начала войны – В.К. Киселев)… Лишь осенью 1941 года я возвратился в Москву».
Эту операцию, по воспоминаниям Ваупшасова и Спрогиса, возглавлял И.А. Серов, талантливый контрразведчик, чекист еще со времен двадцатых годов, но противоречивая фигура со сложным и крутым характером. Он являлся одним из руководителей борьбы с вражеской разведкой, работая в аппарате наркома НКГБ СССР Л.П. Берии, сменившего на этом посту расстрелянного, по приказу И.В. Сталина, Н.Ежова, на которого и были списаны все чудовищные массовые репрессии 1937–1938 годов, и который «слишком много знал» о целях и приемах истребления партийных, советских и военных кадров. И.А. Серов работал, еще в начале тридцатых годов, под руководством одного из создателей советской контрразведки, а позже руководителя разведки ОГПУ – НКВД А.Х. Артузова и набирался опыта в целом ряде успешно проведенных по его планам операциях. Но… молчал, когда Артузова арестовали в 1937 году после выступления на активе НКВД, где тот во весь голос сказал об опасности перерождения органов: «При установившемся после смерти Менжинского фельдфебельском стиле руководства отдельные чекисты и даже целые звенья нашей организации вступили на опаснейший путь превращения в простых техников аппарата внутреннего ведомства, со всеми его недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными охранниками капиталистов».
Слыхал Серов и о последнем поступке Артузова, одного из ближайших сотрудников Ф.Э. Дзержинского по ЧК и ОГПУ, написавшего своей кровью из вскрытой вены на простыне и вывесившего ее, уже умирающим, в окно камеры: «Каждый большевик, верный идеям революции, обязан в случае первой же возможности обличить Иосифа Сталина, предателя, изменившего делу коммунизма». Какое воздействие оказали на Серова эти последние слова его учителя – чекиста, сказать трудно. Он проявил себя знающим и решительным оперативным работником, был молчаливым и щепетильно исполнительным, никогда не задавал никаких вопросов и был инициативным исключительно в своей сфере работы. В 30–40-е годы, как и многие другие, безоглядно верил Сталину, его утверждениям о крайней необходимости проведения репрессий. В этом человеке причудливо сочетались огненные искры бессмертных идей социальной справедливости и черная ночь беззаконных арестов невинных и страдания депортированных народов в сороковые годы. Однако Серов был умным, дальновидным человеком, умеющим учиться у жизни, быть верным социальным завоеваниям и постепенно начавший понимать необходимость кардинальной ломки системы, прекращения репрессий против многих сынов и дочерей советского народа. Июльским (1953 г.) Пленумом ЦК КПСС были приняты необходимые меры для предотвращения в будущем любой попытки поставить органы госбезопасности и внутренних дел, вне и над государством и компартией, использовать их для уничтожения личных и политических соперников. МГБ было преобразовано в КГБ, и первым его председателем был назначен И.А. Серов. О правильности такого выбора, об оправдании оказанного ему руководством СССР доверия свидетельствует позиция И.А. Серова во время июльского (1957 г.) заседания Президиума ЦК КПСС, который большинством голосов принял решение о смещении Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря. В действительности речь шла об отказе от решений ХХ съезда КПСС, от осуждения культа личности, от реабилитации миллионов невинно осужденных, от усиления демократических принципов в жизни партии и общества. Хрущева, его политическую линию поддержала армия в лице Г.К. Жукова и КГБ в лице И.А. Серова. Они сумели быстро обеспечить прибытие в Москву многих членов ЦК, которые стали требовать созыва Пленума. Группа членов ЦК во главе с Серовым, которому подчинялась охрана во всех помещениях Кремля, появилась в здании, где проходили заседания Президиум, пригрозили К.Е. Ворошилову и Н.А.Булганину, что члены ЦК не позволят решать вопросы руководства партией и страной без них, могут собрать Пленум и без одобрения Президиума. Стало очевидным, что сговор против Хрущева потерпел провал. Подавляющее большинство участников открывшегося тогда Пленума, безоговорочно поддержало Н.С. Хрущева. (А зря!). Спустя почти два года И.А. Серов был снят со своей должности в связи с выявленными фактами его личной причастности к выселению ряда народов Кавказа и Крыма в период войны, а также к некоторым неоправданным арестам в конце сороковых годов. За все и всегда приходится расплачиваться. Но он в годы войны был начальником «Смерша» одного из фронтов, а в 1959‑1963 годах работал начальником ГРУ Генштаба Советской Армии и мы вспоминаем о нем, его плюсы и минусы. В истории не должно быть ни «белых пятен», ни «черных дыр», если это настоящая история побед и поражений на нашем сложном и трудном пути.
Ясно, что операция «Родина» проводилась скоординировано из единого центра управления контрразведки НКВД–НКГБ СССР с широким привлечением чекистов Белоруссии, Украины, Ленинграда, Москвы, сотрудников особых отделов ряда дивизий и армий. Безусловно, каждый из исполнителей в этой сложной и многоступенчатой операции знал только небольшую часть всего замысла и далеко не все, даже руководители среднего звена не представляли, с какой подлинной целью проводится то или иное мероприятие. Это было крайне важно, чтобы сохранить весь замысел операции в абсолютной тайне, избежать любой, даже случайной, огласки, утечки информации, ни в коем случае не привлечь к ней внимания спецслужб врага. Данную задачу советская контрразведка сумела успешно решить, несмотря на довольно значительное количество привлеченных сил и самые различные обстоятельства военного времени. Общее руководство осуществляли руководители контрразведки П.В. Федотов, Л.Райхман, В.Михеев.
В связи с тем, что основные события операции «Родина» разыгрывались на территории Белоруссии и примыкающих к ней западных областей РСФСР (Смоленской, Брянской, Орловской), то Ваупшасов назвал фамилию чекиста, ответственного за все стороны белорусского узла операции, который подчинялся по данному вопросу непосредственно И.А. Серову в Москве и контактировал по линии штаба Западного фронта с А.К. Спрогисом, при проведении тех или иных операций в расположении войск на фронте, тыловых частях и на крупных железнодорожных станциях – майор Вячеслав Иванович Формашев. Этот офицер играл одну из ключевых ролей в проводимой операции, а поэтому необходимо, хотя бы кратко, сказать о нем, тем более, что до сего дня его фамилия практически нигде не упоминалась. В.И. Формашев родился в 1911 году в семье мелкого служащего: отец – бухгалтер, мать – домохозяйка. Воспитывался в демократическом духе, в приверженности к идеалам счастья и свободы трудового народа. Становление его как личности проходило уже после революции. Учился в единой трудовой школе, которую закончил в 1928 году. Началась первая пятилетка, страна кипела стройками и поднимающимися заводами. Вячеслав Иванович идет работать слесарем на фабрику, там вступает в комсомол. Проработав два года, понимает, что кроме искреннего энтузиазма для успешного строительства социализма нужны знания и поступает учиться в Ленинградский университет. В середине 30-х годов, сразу после окончания вуза, его по комсомольскому набору направляют в органы государственной безопасности. Несколько лет он обучается в спецшколе, где наряду с другими предметами отлично изучил немецкий язык, а позже самостоятельно и английский. Служить молодого чекиста направили в Белоруссию. Перед войной он совершил несколько «загранкомандировок» в оккупированную гитлеровцами Польшу и в саму нацистскую Германию. Задания выполнял в срок и полностью, в сложных ситуациях не однократно проявлял выдержку, находчивость и разумную инициативу. В 1941 году, еще до начала войны, работал в Минске в республиканском аппарате НКГБ. По характеру он был молчалив, интеллигентен, вежлив, беспредельно предан своей работе по защите Родины от происков германской разведки, не сомневался в необходимости проводимой руководством страны предвоенной внутренней политики. Он полностью верил Сталину, но никогда не доверял до конца ни Цанаве, ни Берии, видя, как фабрикуются различных политические дела, и в целом допускаются нарушения законности по их приказам. Формашев был честным чекистом и убежденным коммунистом – в партию он вступил в годы войны.
В 1942–1943 годах Вячеслав Иванович являлся офицером связи между Центральным штабом партизанского движения и Четвертым Управлением НКГБ СССР, руководящим практической деятельностью спецгрупп госбезопасности на оккупированной фашистами советской земле. Более десятка раз за два года войны он забрасывался через линию фронта на захваченную врагом территорию, как правило, в одиночку, с целью передачи секретных указаний командованию партизанских бригад, полков или зональных и областных соединений, которые нельзя было доверять радиосвязи или если радиосвязи у партизан еще не было. А также для получения важной разведывательной информации от спецгрупп. Некоторые заброски длились две-три недели, другие – несколько месяцев. Действовать приходилось в крайне тяжелых условиях, часто на пределе человеческих сил и выносливости, при постоянном нервном напряжении, быстро и безошибочно разгадывать при встречах с людьми, кто перед тобой – патриот или замаскированный враг.
В этих «командировках» В.И. Формашев сильно подорвал здоровье, несколько раз попадал в госпиталь, но действовал в тылу противника уверенно и мужественно. Был награжден за свою успешную работу орденами Красного Знамени и Красной Звезды. После освобождения Белоруссии летом 1944 года по инициативе Цанавы, недолюбливавшего самостоятельного и принципиального чекиста, он был переведен на работу в создавшееся Министерство иностранных дел БССР, неоднократно принимал участие в разнообразной дипломатической деятельности делегации БССР в ООН, являлся заместителем министра. В 50-60-е годы работал в министерстве высшего образования СССР на должности начальника отдела. Все, знавшие, знавшие Формашева по работе, отмечали свойственные ему принципиальность, отзывчивость и честность. Умер В.И. Формашев в 1969 году.
Операция Родина», безусловно, не сыграла ни главной, ни решающей или определяющей роли как в развитии военных действий в 1941 году, так и в крахе плана «Барбаросса», но все же оказала немалое влияние на ход событий лета 1941 года. Ведь главным являлось не то, что, по сути, наша война с фашистской Германией была самым крупным военным столкновением СССР с ударными силами фашизма. Определяющим стало то, что, уже в 1941-м, план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, перечеркнут героическим отпором, который противник встретил на нашей земле. Мир помнит несгибаемое мужество защитников Брестской крепости, Москвы, Ленинграда и Сталинграда, Киева и Минска, Могилева, Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи, Тулы, Смоленска и Мурманска. Но города становятся героями лишь тогда, когда Героями становятся их защитники. В жестоких сражениях наша армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать. Страна выстояла, переломила ход событий, хотя в ходе войны у нас складывались и критические ситуации.
Кроме того, нужно сказать и о том, что в процессе развития событий на фронте, особенно в переломных ситуациях, когда очень активно взаимодействуют различные силы и подходы противоборствующих сторон, взаимно притягиваясь и отталкиваясь, давали большую или меньшую возможность командованию выбора принципиально разных путей успешного развития событий, действия разведки и контрразведки по своевременной информации армейских штабов о дислокации, силах и планах противника, а также успешная его дезинформация, могут дать решающий перевес в том или ином положении на общем военно-стратегическом направлении действий войск на фронте. Эту роль с немалым успехом сыграла многоступенчатая операция советской контрразведки летом 1941 года.
И последнее замечание о логичности или противоречивости данной версии хода военных действий, первых месяцев войны, о подтверждении ее архивными документами и печатными работами по исследованию Великой Отечественной войны. Данный материал основан в основном на устных рассказах С.А. Ваупшасова и А.К. Спрогиса. Архивные документы Разведывательного управления Генерального штаба Советской Армии и контрразведки КГБ СССР закрыты по сей день. Исследователям они практически недоступны, и подтвердить или опровергнуть с их помощью данную версию не представляется пока возможным. Следует также учитывать, что в связи с совершенно секретным характером самой операции далеко не все распоряжения и отчеты могли фиксировать на бумаге, особенно на начальном этапе войны. Кроме того, о том, как относились к сохранению архивных документов: неоднократно проводились их «чистки»; уничтожались при эвакуации из Москвы в октябре 1941 года часть архивов Наркома Обороны и НКВД–НКГБ СССР. Имеется вероятность уничтожения ряда документов в связи с известными событиями весны-лета 1953 года и после ХХ съезда КПСС. Это связано с тем, что на некоторых материалах, а они не обязательно должны были быть подшиты в делах органов отдельно от других бумаг, могли быть те или иные подписи, резолюции, разработки лиц, скомпрометировавших себя в результате нарушений законности в послевоенный период. Однако изученная наша обобщающая научная литература по войне не противоречит возможности развития хода событий с учетом результатов операции «Родина», а переводная западная, в первую очередь изданная в ФРГ, содержит ряд косвенных подтверждений данной версии, в особенности «Военный дневник» ‑ ежедневные записи начальника генерального штаба сухопутных сил 1939–1942» генерал-полковника Ф.Гальдера.
Руководство нацистской Германии придавало первостепенное значение проведению успешной разведки против СССР. Ведь во всех предшествующих военных компаниях обладание достаточно полными разведывательными сведениями о противнике и ведение результативной подрывной работы позволяло Вермахту рационально распределять свои военные силы, оставляя в неприкосновенности стратегические резервы, направлять войска только туда, где они могли быть использованы с максимальным эффектом. Многие забрасываемые в СССР шпионы и диверсанты снабжались, кроме оружия, взрывчатыми веществами, специальными средствами для совершения террористических актов, воинскими и гражданскими документами и коротковолновыми приемо-передающими радиостанциями и шифрами, для надежной и быстрой связи. Для достижения своих целей гитлеровцы сосредоточили на советско-германском фронте более ста тридцати разведывательных и контрразведывательных органов, создали свыше шестидесяти специальных школ по подготовке агентуры. За год все школы и различные курсы выпускали около десяти тысяч шпионов и диверсантов со сроком обучения от полутора до трех месяцев.
Естественно, что основным объектом подрывной деятельности противника в годы войны являлась Красная Армия. В 1941 году, из общего числа немецких шпионов, диверсантов и террористов, забрасываемых в СССР, пятьдесят пять процентов направлялись непосредственно в зону боевых действий советских войск. С точки зрения нацистов и разработанных ими планов это было логичным и вытекало из стратегической доктрины «молниеносной войны», на которую гитлеровцы отводили всего два-три месяца. Основная цель Вермахта и всех военных органов Германии заключалась в уничтожении в скоротечных и маневренных боях Красной Армии. После этого – захват важных для Германии советских экономических районов, включая Москву, Ленинград, нефтеносные районы Кавказа, представлялся фашистам делом техники. В результате задачи немецкой разведки с начала войны и примерно до марта 1942 года сводились обеспечению войск агрессора как можно большей и точной информацией о советских войсках в районе военных действий на сегодня и ближайшее время. Разведка должна была представлять данные о дислокации и численности войск на фронтах, подходе новых войсковых соединений, о наличии оборонительных рубежей, их прочности и уязвимых местах, о моральном состоянии военнослужащих Красной Армии. Поскольку война предполагалась скоротечная, то вне интересов разведки во многом оказались стратегические возможности Советских Вооруженных сил, те факторы, которые будут действовать через шесть – восемь месяцев, на следующий год. В этом заключался один из важнейших просчетов гитлеровских спецслужб. Ошибалась немецкая разведка и в своих расчетах на то, что нападение Германии на Советский Союз вызовет внутреннее брожение, открытые выступления против Советской власти, национальную рознь между народами СССР и так далее.
Агентура спецслужб Германии была главным, но не единственным средством достижения разведывательных целей. Определенное и немалое внимание отводилось получению информации разведывательной службой, занимающейся перехватом переговоров советских военных радиостанций, воздушной разведке и так далее. Все эти средства, как правило, были взаимосвязаны и дополняли друг друга. Генерал-лейтенант Пиккенброк, один из руководителей Абвера, так оценивал значение воздушной разведки: «Эта разведка давала хорошие результаты, она сохраняла нам большое количество агентов и в то же время добывала данные для заброски агентуры».
Встает вопрос, а зачем нам эти подробные данные об организации и направлении, средствах и задачах фашистских спецслужб, в предвоенное время и в начале войны? Дело в том, что советские чекисты, ряд руководителей НКВД–НКГБ СССР, являясь высококвалифицированными специалистами и хорошо зная, в том числе по данным советских разведчиков, находившихся в лагере врага, главные установки и задачи нацистских спецслужб, сумели быстро и правильно оценить ситуацию и использовать складывающиеся обстоятельства, сильные и слабые стороны противника, для успешного проведения операции. Они хорошо представляли все возрастающую угрозу агрессии против СССР нацистской Германии и принимали соответствующие меры. Как свидетельствует в своих мемуарах видный советский разведчик П.А. Судоплатов, бывший с мая 1939 года заместителем начальника внешней разведки НКВД СССР: «Военная контрразведка оказалась на переднем крае мобилизационных действий. Ее руководство еще за полгода до начала войны (в конце декабря 1940 – начале января 1941 годов) разработало ряд мероприятий для действий в «особый период», то есть в период войны». И далее самокритично указывает, что в Разведуправлении НКВД–НКГБ СССР начали проводить эти меры в большой спешке лишь в апреле-мае 1941 года.
Восемнадцатого декабря 1940 года Гитлер подписал директиву номер двадцать один под названием «План Барбаросса», предусматривающую полный разгром СССР, уничтожение Красной Армии, ликвидацию советского строя. Он указывал на совещании еще в 1940 году: «Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл только в том случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство целиком». Тридцатого марта 1941 года на секретном совещании военных руководителей Гитлер повторил основную идею: «Наши задачи в отношении России – разгромить ее вооруженные силы, уничтожить государство». Фюрер нацизма рассматривал войну против Советской России как беспощадную войну двух идеологий. Гитлеровцы делали все возможное для введения в заблуждение о своих истинных целях, планах и ближайших намерениях советского политического и военного руководства. Фашистами было проведено примерно семьдесят мероприятий для дезинформации нашего руководства. Особенно активно велась дезинформация в промежутке с февраля до начала июня 1941 года. Но уже в декабре 1941 года один из руководителей информационного отдела Разведуправления Красной Армии, подполковник Новобранец, убедившись, на основании поступавшей многочисленной и разнообразной информации, в серьезности надвигающейся на страну опасности, разослал сводку № 8 всему начальствующему составу Красной Армии, до командиров корпусов включительно. Сделал он это в обход начальника Разведуправления генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова, искажавшего донесения советских разведчиков при докладах И.В. Сталину. Голиков подогнал данные нашей разведки под схему, переданную ему через НКВД югославским атташе в Москве Путником, в которой числилось всего 35–40 фашистских дивизий, разбросанных вдоль советских границ и не объединенных замыслом общей идеи. Эта схема была известна Сталину, и он писал об этих дивизиях Гитлеру. И получал от него конфиденциальный, успокаивающий ответ. Проанализировав «схему Путника» Новобранец убедился, что это чистейшей воды дезинформация.
Все же, понимая всю ответственность за распространяемые данные о подготовке фашистской Германии к агрессии против СССР в ближайшие месяцы, Новобранец разослал также текст, сводки № 8, по особому списку, для сведения: Сталину, Молотову, Маленкову, Берии, Ворошилову, Тимошенко, Мерецкову, Жукову. В тот же день он сумел лично доложить обстановку на границе начальнику Генштаба Н.А. Мерецкову и представил ему и А.М. Василевскому составленную им карту с действительным развертыванием ударных группировок Вермахта в количестве ста десяти дивизий (в том числе одиннадцать танковых). Результат своевременного, за шесть месяцев до начала войны, предупреждения руководства страны и Красной Армии? Мерецков, который поверил в данные сводки, был снят с должности начальника Генштаба. Василевский, понявший правдивость сведений Новобранца, «тяжело заболел». Сам Новобранец был смещен Голиковым с занимаемой должности и отправлен им на «бериевский курорт» ‑ в закрытый дом отдыха Разведуправления, превращенный в «отстойник» для «паникеров войны». Там в любой момент его могли арестовать и расстрелять. Подтверждением правоты подполковника Новобранца стало донесение военного атташе посольства СССР в Берлине генерал-майора В.И. Тупикова от 29 декабря 1940 года о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР и что она якобы будет объявлена в марте 1941 года. Военная разведка сразу дала задание о срочной перепроверке и уточнении этих сведений. Надо отметить, что Гитлер подписал окончательный план войны с СССР – план «Барбаросса» 18 декабря 1940 года, а всего через десять дней об этом факте сообщает советский военный разведчик, что говорит о силе и возможностях советской разведки. В январе 1941 года из Берлина пришло подтверждение достоверности данной информации, основанной не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который являлся сугубо секретным, и о котором было известно только очень немногим лицам. К тому же в этом сообщении речь шла уже не о марте, а о весне 1941 года. Эта информация, как и другие, была сразу же доложена в Кремль. Начальник Разведуправления Генерального штаба Красной Армии Голиков 30 декабря 1940 года доложил Сталину, что 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил директиву № 21 верховного главнокомандования о плане войны против СССР. Однако зимой 1941 года органы госбезопасности и военной разведки продолжали отмечать усиление подрывной деятельности фашистских спецслужб, их враждебная активность нарастала и весной. В апреле и мае 1941 года было выявлено сосредоточение вблизи советской границы крупных группировок немецко-фашистской армии. Советский военный атташе в Берлине генерал-майор В.И. Тупиков радировал в Москву, что три группы армий Вермахта будут наступать на Москву, Ленинград и Киев. Он ссылался на данные полученные от подпольной антифашистской организации Шульце-Бойзена и Харнака и просил снабдить их рацией. Семнадцатого июня 1941 года органы госбезопасности и командование пограничных войск известили Сталина о том, что нападение Германии на СССР произойдет 21–22 июня.
Всего с момента принятия Гитлером решения на войну против СССР (июль 1940 г.) и до 22 июня 1941 года советская разведка имела возможность достаточно четко квалифицировать и оценивать поступавшие от разведчиков сведения как подготовку гитлеровской Германии к нападению. В целом по данным зарубежных исследователей, рассматривается и оценивается возможность поступления советскому руководству по различным каналам информации по более ста эпизодам подготовки намечавшейся агрессии. В ходе уже первого этапа операции «Родина» чекисты, анализируя задания, полученные из Абвера и РСХА выявленной фашистской агентуре, а в ряде случаев проведя наблюдения за их деятельностью по выполнению поставленных зимой-весной 1941 года перед ними задач, пришли к выводу о приближающейся войне. Об этом свидетельствовали усиленное внимание фашистов к выяснению возможностей железнодорожного транспорта, составление детальных планов расположения частей Красной Армии в западных округах, целенаправленный сбор данных о подробной дислокации советской авиации, о складах боеприпасов и горючего. Характерно, что задания носили краткосрочный характер и были очень частыми, что указывало на большую вероятность трагической развязки событий уже летом 1941 года. Однако их сигнал остался без должного внимания со стороны руководства наркомата. Ближайший сподвижник Сталина нарком НКВД (НКГБ) СССР Л.П. Берия в докладной записке Сталину в июне 1941 года утверждал: «Я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 г. Гитлер на нас не нападет!»
К сожалению, Сталин, оказавшись во власти своих ошибочных расчетов и прогнозов, не принял во внимание получаемую из разных источников информацию, а его ближайшее партийное и советское окружение послушно и боязливо соглашалось со всем, что исходило от Генсека, а с мая 1941 года – Председателя Совнаркома СССР. Высшее военное руководство, помня о трагической судьбе своих предшественников, опасалось противоречить «великому вождю всех времен и народов» и не предпринимало всех необходимых мер для обороны страны. При Сталинском подозрительном характере, его полной уверенности в своей непогрешимости и боязливом молчании приближенных, хорошо помнящих Великий террор 1937–1938 годов, все это отбрасывалось, не давало воспринять трезвую оценку о неумолимо надвигающейся войне.
Органы советской разведки и контрразведки были поставлены такой обстановкой в очень тяжелое и трудное положение. Однако в 1940-м и в первом квартале 1941 года сотрудники органов НКВД (НКГБ), продолжавшие стоять на страже интересов государства, в западных районах Советского Союза сумели выявить шестьдесят шесть фашистских резидентур и обезвредить более 1300 их агентов. Наряду с этим наши пограничники только одиннадцать предвоенных месяцев задержали около пяти тысяч лазутчиков. Чекистами были добыты важная информация о военно-политических планах империалистических держав, точные сведения о подготовке нацистской Германией войны с СССР. Борьба с подрывной деятельностью иностранных разведок и враждебных элементов была бы в предвоенные годы намного эффективней, если бы работа органов государственной безопасности не была во многом парализована и репрессиями в отношении большого числа их сотрудников.
В этих конкретных условиях и определилась окончательная идея операции «Родина», заключавшаяся в создании в будущем возможности переиграть, перехитрить разведку противника, дезинформировать его командование в случае агрессии Германии против СССР с целью создания наиболее благоприятных условий для обороны, а затем контрнаступления Красной Армии. Знали ли нарком НКВД (НКГБ) и высшее руководство Разведуправления Красной Армии об этой операции? С.А. Ваупшасов и А.К. Спрогис были уверены, что знали и устно дали «добро» на ее проведение, хотя никаких документов об этом они не видели. В чем дело? Ведь Сталину Берия и Голиков докладывали и убеждали его совсем о другом. Здесь надо учитывать одно обстоятельство: да, Берия был политическим авантюристом, карьеристом и абсолютно беспринципным человеком. Но в тоже время он был и умным, расчетливым, хитрым и хорошо понимал коварство и беспощадность Сталина, его манеру находить всегда «козлов отпущения» за свои промахи и ошибки. Перед глазами Берии были судьбы его предшественников – Ягоды и Ежова и их приближенных, которых не спасли ни фанатическая преданность вождю, ни реки пролитой по его приказам крови. Ф.И. Голиков, сменивший в июле 1940 года на посту начальника Главного разведывательного управления честного и прямолинейного И.И. Проскурова, открыто перечившего Сталину, знал о судьбе последнего – тот был арестован и позже расстрелян осенью 1941 года. Поэтому он и давал только ту информацию, которую там хотели слышать – в угоду вождю, от страха, для своей безопасности, для своей карьеры. Но, с другой стороны, он, как профессиональный военный, добровольно вступивший в Красную Армию, еще в 1918 году, успешно закончивший в 1933 году Военную Академию им. Фрунзе, не мог не понимать, хотя бы про себя, реального положения вещей. Значит им обоим нужна была «страховка» в случае начала войны, возможность отвести от себя смертельно опасный гнев Сталина. Именно поэтому группе контрразведчиков-чекистов при содействии некоторых военных разведчиков было разрешено в условиях абсолютной секретности начать операцию. Если удастся – то Берия и Голиков смогут быстро представить впечатляющие результаты своей работы. Если же в самый последний момент по тем или иным причинам нацистское руководство Германии отложит на некоторое время агрессию против СССР, никто и ничто не помешает им, в обстановке культа личности и массовых нарушений законности, без лишнего шума уничтожить всех исполнителей и организаторов этой операции.
На первом этапе операции (кодовое название «Заря») с зимы 1941 года перехватывались передаваемые Абвером и СД задания фашистской агентуре, громились не все выявленные к весне 1941 года вражеские резидентуры и не арестовывался ряд агентов, особенно располагавших радиопередатчиками. Их деятельность лишь по возможности ограничивалась и тщательно фиксировалась. Хотя такие действия и несли определенный ущерб для нас, но все же это было меньшее зло, необходимое для будущей Победы. Встает вопрос, а были ли технические возможности, подготовленные кадры, опыт деятельности для планировавшейся широкомасштабной радио игры советской контрразведки и военной разведки с гитлеровскими спецслужбами? Да, такие возможности, кадры и опыт были. Вот некоторые факты. Еще в 1939 году, по свидетельству П.А. Судоплатова, наша радио контрразведка, наряду с агентурой, контролировали переписку между посольством Японии в Москве и японским МИДом. В составе радио контрразведки было дешифровальное подразделение, которым успешно руководили Шевелев и Блиндерман. Радиодивизионы особого назначения (ОСНАЗ) существовали еще до войны. Например, в октябре 1939 года, в составе Украинского фронта (развернут в связи с подготовкой и осуществлением освобождения Красной Армией Западной Украины и Западной Белоруссии) имелось четыре дивизиона ОСНАЗ (386-й, 370-й, 372-й, 529-й), которые были развернуты в приграничной полосе от Люблина до Карпат и занимались радиоперехватом на территории Южной Польши.
В советском гарнизоне в городе Приенай (Литва) в ноябре 1939 года был развернут разведпункт 363-го радиодивизиона ОСНАЗ, входящего в состав Белорусского фронта и осуществлявшего радиоразведку на территории Восточной Пруссии и северо-восточнее Варшавы. Такие же радиодивизионы имелись и в других пограничных округах. К началу Великой Отечественной войны существовало шестнадцать дивизионов ОСНАЗ.
Кроме того имелась радио бригада Главного командования в составе шести радио дивизионов и радио полка, которая вела радиоразведку в более чем тысячекилометровой полосе. Они занимались радиоперехватом, пеленгацией штабов войск противника, прослушиванием телефонных разговоров и постановкой радиопомех в приграничной полосе; их деятельностью руководил Разведывательное управление через разведывательные отделы военных округов.
Кроме того, в начале 1941 года в одной из стран Южной Европы (Болгария) резиденту германской разведки был подброшен одним из наших разведчиков хорошо сработанный липовый «компрометирующий» материал на ответственного работника советского посольства. После проверки данного материала, убедившись в его «подлинности», фашисты смогли «завербовать» нашего дипломата. Он начал давать некоторые второстепенные экономические и политические, но поддающиеся перепроверке, сведения. Постепенно доверие к нему и его информации у разведки противника росло. Вряд ли надо разъяснять, что это был сотрудник органов, который войдя в доверие к гитлеровцам, многие месяцы успешно выполнял задания руководства, ведя смертельно опасную двойную игру. Со слов С.А. Ваупшасова мне известен только его псевдоним – «Николай Орловский». Так чекисты сумели к лету 1941 года создать дипломатический канал для дезинформации врага. С началом войны «Николай Орловский», будучи «выдвинутым» занимается военными делами в многосложной работе посольства в дружелюбной Германии, но оставшейся формально нейтральной к СССР стране, смог начать передавать своим «хозяевам» различную оборонную информацию, данные которой тщательно подготавливались в советской контрразведке и имели правдоподобный характер. Проводилась очень кропотливая и смелая работа по подготовке условий для сообщения гитлеровцам необходимой, ложной, информации большого значения, которую они должны были воспринять как правдивую и в связи с ней в определенной мере скорректировать свои военные планы. В целях достоверности, «Орловский» не мог знать всей или даже большей части замысла дезинформации, а только ряд ее важных моментов, но по ним можно было, при тщательном анализе и сопоставления с другими разведывательными данными, во многом установить планы замыслов советской стороны и якобы данных в связи с ними поручений.
Весной 1941 года Советское руководство, через органы государственной безопасности и военной разведки, делало все, чтобы заставить Гитлера и его военно-политическое окружение отложить нападение на СССР. Москва использовала для дезинформации противника устаревшие военные планы. Германии намекнули, что ее военные приготовления в Восточной Европе укрепляют в советском руководстве анти германские настроения, тогда как Сталин якобы является гарантом прогерманского курса. До сведения Берлина была доведена версия о расколе между политическим и военным руководством СССР по вопросу об отношении к Германии. Военные, якобы настаивали на ужесточении советской политики, и под их нажимом Сталин вынужден был проводить некоторые военные мероприятия. В апреле 1941 года германской военной делегации для демонстрации силы были показаны некоторые советские авиапредприятия. В ход шли любые средства. В мае – июне 1941 года были инициированы слухи о возможном применении химического и бактериологического оружия советской стороной в случае нападения Германии. Часть этих данных передавалась и через подконтрольную фашистскую агентуру в Абвер и СД на первом этапе операции «Родина».
Фашистская военная разведка, возглавляемая адмиралом Канарисом, смогла собрать обширные данные о Советском Союзе и его вооруженных силах. В результате в начале 1941 года Абвером был подготовлен и издан секретный бюллетень германского генерального штаба «Вооруженные Силы Советского Союза по состоянию на 1 января 1941 г.», в котором давалась оценка материальных и людских возможностей нашей страны, а также боевых и моральных качеств личного состава Красной Армии.
Так что передаваемые весной 1941 года частью выявленной, но не задержанной, агентурой сведения не носили принципиального характера, а лишь подтверждали или уточняли уже ранее известное. Гитлеровцы не сумели заранее узнать ничего существенного ни о создании советскими конструкторами реактивных минометов «Катюши», ни о боевых характеристиках танков Т-34 и КВ, новых типов самолетов-истребителей ЯК-1, ЛАГГ-3, МИГ-3, штурмовике ИЛ-2, пикирующем бомбардировщике ПЕ-2, ни о радиолокационных станциях РУС-1 и РУС-2.
Органы немецкой военной разведки к началу войны имели (от контролируемых органами госбезопасности СССР и от еще неразоблаченных резидентур) ряд сведений о дислокации, организации и вооружении соединений и объединений Красной Армии, находящихся вблизи западных границ. В основном было правильно определено количество и отмобилизованность советских дивизий. Из 170 дивизий, располагавшихся в западных округах, немецкие агенты выявили 164 дивизии.
Но уже на первом этапе операции «Родина» советские контрразведчики, умело снабжая нужными им фактами ничего не подозревающие резидентуры врага, сумели ввести руководство Вермахта в заблуждение насчет реальных сил Красной Армии по ряду важных позиций. Так, командование ВВС Германии определяло численность нашей авиации по ряду важнейших позиций в восемь тысяч самолетов, в то же самое время, когда на 1 июня 1941 года в ней насчитывалось 15 900 боевых самолетов. Это позволяло, несмотря на колоссальные потери, в первые месяцы войны, сохранить, хотя и сильно понизившуюся, боеспособность советских ВВС. И уже к 1 июля 1941 года начальник Генерального штаба Германии Гальдер вынужден был отметить крайне неприятную новость: «Наше командование ВВС серьезно недооценило силы авиации противника в отношении численности. Русские, очевидно, имели в своем распоряжении значительно больше… самолетов». Гитлеровское командование было введено в заблуждение контрразведчиками и о количественном составе наших танковых войск. Так, начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии, полагаясь на данные своей разведки, считал в начале июля 1941 года, что Красная Армия располагает в строю предположительно 15 тысячами танков, в то же время в реальности можно оценить их количество в десять – одиннадцать тысяч. Из них с января 1939 года по 22 июня 1941 года в советские войска поступило более семи тысяч танков. На самом деле более 60% всех танков находилось к началу войны в войсках западных пограничных округов – это примерно 6 000–7 000 машин, а не 15 000, как считали в Генеральном штабе гитлеровских войск. К сожалению, из имеющихся танков только 1861 от общего количества составляли лучшие танки Т-34 и КВ, изготовленные в 1940 – начале 1941 годов. Остальные были устаревших образцов. Именно поэтому соотношение советских и германских потерь в танках с 22 июня по 30 ноября 1941 года составляло четыре к одному.
В целом противник допустил просчет в два – два с половиной раза в количестве нашей боевой техники. И четыре-пять тысяч несуществующих наших танков очень беспокоили фашистских генералов – где и когда они появятся? Чекисты не только ввели в заблуждение вражеское командование относительно количества и качества танков ‑ выпуск советской промышленностью в основном устарелой продукции не их вина, ‑ но и сумели заставить гитлеровцев поверить в угрозу для реальных дивизий Вермахта от мифических советских танковых дивизий. и допустить, соответственно, ряд неправильных или колеблющихся решений, что помогало нашим войскам в очень тяжелой и трудной обстановке обороны и отступления летом 1941 года под натиском маневренных и хорошо обученных сил Вермахта.
Чекисты отлично понимали всю меру своей ответственности за каждую информацию, попавшую от агентуры в штаб противника. Им было вдвойне тяжело, так как развитие событий на фронте уже в самые первые дни войны было совсем иным, чем ожидалось. Стало ясно, что мы переоценили свои вооруженные силы и недооценили врага. Приходилось учитывать, что участники операции «Родина» могли быть в любой момент обвинены руководством НКВД или в прямом пособничестве противнику, или в преступной халатности, что позволяли свободно действовать шпионам, или в неумении квалифицированно и точно бороться с вражеской агентурой. Спасти могло одно – успех, оправдать перед совестью пролитую кровь, сгоревшие танки и разбитые самолеты – только полный успех задуманного. Но без начального этапа операции невозможно было обойтись. Жестокая логика борьбы беспощадно требовала идти до конца. Необходимо, чтобы если не все, то многие сведения о войсках, переданные по рациям в Абвер или СД в Берлин, Кенигсберг и Варшаву должны были получить подтверждение в своей правильности по захваченным документам, по допросам пленных, по аэрофотосъемкам и данным радиоперехватов.
Ведь, чтобы можно было давать большую и целенаправленную дезинформацию, надо было сначала добиться доверия передаваемым данным. Когда эта часть задания была выполнена, ни на один лишний час шпионов и диверсантов не оставили на свободе. В ночь на 1 июля в охваченной войной Белоруссии, в Украине, в еще спокойных Ленинграде и Москве, и в подвергающихся бомбежкам немецкой авиации городах и на железнодорожных станциях, были арестованы все наблюдаемые чекистами агенты, перехвачены все выявленные разведывательные связи, проведены тщательные обыски и захвачено различное шпионское снаряжение. Особое внимание было обращено на захват радистов и раций.
После быстрых и психологически точно просчитанных допросов, где резидентам и радистам были предъявлены все выявленные улики, все материалы слежки за несколько месяцев, всех их переданные и расшифрованные радиограммы. Многие из них, спасая жизнь – надеясь на снисхождение военного трибунала за реальную помощь контрразведке в обороне Родины, дали согласие работать под контролем чекистов и регулярно передавать точно сформулированные и внешне правдоподобные данные своим бывшим хозяевам. Сколько резидентов, радистов и по скольким радиостанциям шла эта радио игра? По словам С.А. Ваупшасова – несколько десятков человек и более двух десятков раций, а по воспоминаниям А.К. Спрогиса более полусотни с тремя десятками раций. Во всяком случае, радиоигра по дезинформации командования агрессора шла большого размаха и с течением времени, в связи с захватом новых групп агентов с рациями, принимали все более масштабный характер.
Усилению достоверности передаваемых сведений помогло то, что радисты под контролем чекистов работали из разных мест, удаленных на десятки и сотни километров друг от друга, в разное время и по различным шифрам, никак не связанных друг с другом. Что вполне такое было реальным, свидетельствует факт – с конца 1941 года по май 1943 года для передачи врагу ложных данных использовались восемьдесят радиостанций немецкой агентуры, захваченных органами госбезопасности в нашем тылу.
В чем был смысл проводимой дезинформации? Для точного ответа на этот вопрос надо хотя бы вкратце рассмотреть складывающуюся с начала войны обстановку на фронте. Уже в первые недели войны определилось главное направление удара немецко-фашистских войск на Московском направлении, а не на Украине, где по расчетам нашего командования он предполагался, и где было сосредоточено больше сил Красной Армии. Здесь на Минск, Смоленск и далее на Москву, как важнейший политико-административный центр СССР, крупнейший транспортный и промышленный центр, наступала фашистская группа армий «Центр». В ней насчитывалось пятьдесят дивизий, в том числе девять танковых и шесть моторизованных. Ее поддерживал 2-й воздушный флот – самый сильный в нацистской армии, насчитывающий 1 670 боевых самолетов. Группе армий «Центр» было передано около половины отдельных артиллерийских, зенитных и противотанковых дивизионов и батарей резерва сухопутных сил Германии. Взятию Москвы гитлеровцы придавали исключительное значение.
Гитлер предусмотрел в плане «Барбаросса» ‑ плане войны, разгрома и захвата СССР – быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в политическом, так и в военном отношении решающий успех. «Не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла». Взятие Москвы несло, как они считали, победу гитлеровским агрессорам. И не только потому, что она была столицей СССР. Москва – это узел всех железных дорог европейской части СССР; это важнейший, производящий оружие, боеприпасы, средства войны промышленный центр СССР; это, наконец, исконно русская часть населения СССР. Взятие Москвы делило СССР на куски, связь между которыми была бы чрезвычайно затруднена». Захвата Москвы с нетерпением ждали милитаристские круги Японии и Турции, как сигнала для нападения на дальневосточные и закавказские районы СССР.
Падение Москвы должно было продемонстрировать всему миру триумф стратегии «молниеносной войны», послужить решающим доказательством «неотразимости» немецкого оружия, сорвать складывающуюся антифашистскую коалицию СССР, Великобритании и США. Не надо забывать и о страшном психологическом ударе по надеждам всех наших народов и боеспособности Красной Армии в случае захвата Москвы. Поэтому гитлеровцы связывали судьбу войны против СССР летом-осенью 1941 года с наступлением Вермахта на Москву.
Начало войны для Красной Армии сложилось крайне неблагополучно. Хотя нужно отметить, что силы пяти советских западных пограничных округов были немалыми, они все же почти вдвое уступали противнику в людях, имели несколько меньшее количество артиллерии, и превосходили врага в танках и самолетах, правда, большей частью устаревших образцов. Так, в общем парке боевых самолетов 82,7% составляли старые типы самолетов. Главный их недостаток заключался в слабом вооружении и низкой живучести. Так, только 9,8% общего числа истребителей имели пушечное вооружение на 1 июня 1941 года.
Уже в первый день боевых действий воздушным налетам подверглись двадцать шесть аэродромов Западного, двадцать три Киевского, одиннадцать Прибалтийского Особых военных округов и шесть аэродромов Одесского военного округа. В результате мы потеряли одну тысячу двести самолетов, в том числе 738 самолетов Западного округа. Враг сумел уже в первые дни захватить господство в воздухе. По оснащению новыми образцами танков и самолетов превосходство было на стороне немецко-фашистской армии. Дивизии врага были полностью укомплектованы личным составом, вооружением и боевой техникой, транспортными средствами. Они обладали более высокой подвижностью и маневренностью. На ряде ударных направлений гитлеровцы превосходили советские войска в три-четыре раза. Сыграла свою роль и оперативная внезапность удара Вермахта по нашим во многом не приведенным в боевую готовность войскам, к тому же далеко не всегда находившихся в наилучших по размещению группировках.
Несмотря на мужественное сопротивление многих частей наших войск, противнику удалось за три недели войны полностью разгромить двадцать восемь советских дивизий. Кроме того, более семидесяти двух наших дивизий понесли потери в людях и боевой техники от пятидесяти и выше процентов. Общие наши потери только в дивизиях, без учета частей усиления и боевого обеспечения, за это время составили более восьмисот тысяч человек, 11783 танков, не менее шести с половиной тысяч орудий калибра 76-мм и выше, более трех тысяч противотанковых орудий, около двенадцати тысяч минометов. А также 4013 самолетов. Следует учитывать, что враг смог продвинуться за три недели боев от 450 до 600 километров на решающем, западном направлении. Более высокая моторизация и преимущество в подвижности нередко позволяли противнику перехватывать пути отходящих войск, и им приходилось вести тяжелые бои в окружении и при прорыве из него. В результате очень больших потерь в военной технике вооружение советских войск резко снизилось. Нарастали трудности с материально-техническим и вещевым снабжением – около двухсот складов с горючим, боеприпасами и вооружением остались на захваченной врагом территории. У нас же был острый недостаток даже в винтовках и патронах. Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая эти реальности, 15 июля 1941 года направило директивное письмо командующим стратегических направлений, фронтами, армиями и военными округами о вынужденном переходе к формированию частей и соединений с сокращенным количеством вооружения, почти без механизированных средств передвижения, что резко снизило их боевую мощь и маневренность. Поспешно организуемая оборона при нехватке противотанковых и противовоздушных средств оказывалась непрочной.
Надо было любой ценой, не останавливаясь ни перед какими жертвами и потерями остановить врага, устремленного на Москву. С 10 июля по 10 сентября, в течение двух месяцев в районе Смоленска и прилегающих областей развернулось ожесточенное сражение второго стратегического эшелона наших войск с прорвавшимися далеко на восток силами группы армий «Центр». Однако из сорока восьми советских дивизий успели занять позицию к началу сражения только тридцать семь, но и они не успели создать прочной обороны, к тому же, им приходилось действовать на широком фронте от Идрицы до Речицы – в среднем на каждую дивизию приходилась полоса шириной 25 – 30 километров. Противник превосходил войска Западного фронта в людях, артиллерии и самолетах в два раза, а в танках – в четыре раза. Сложилась непосредственная опасность для Москвы. Но были и факторы, помогавшие нашим войскам. Одиннадцать окруженных дивизий под Минском сумели приковать к себе на определенное время двадцать пять дивизий врага: мужественно оборонялись защитники Гомеля и Могилева, оттягивая на себя значительные силы фашистов. На Бобруйском направлении 21-я армия перешла в наступление и силами 63-го стрелкового корпуса освободила города Рогачев и Жлобин, сковав на длительное время главные силы 2-й армии противника. В июле враг был остановлен под Киевом и на Лужском оборонительном рубеже на дальних подступах к Ленинграду. К середине июля гитлеровские войска понесли значительные потери. Они потеряли около ста тысяч солдат и офицеров, более одной тысячи семисот танков и штурмовых орудий, одну тысячу двести восемьдесят четыре самолета. Сопротивление советских войск нарастало с каждым днем. Уже к 23 июля 1941 года танковые и моторизованные соединения группы армий «Центр» потеряли около пятидесяти процентов. А пехотные – около двадцати процентов своего состава. Пришлось использовать для пополнения войск значительную часть резерва. Перед высшим фашистским руководством вставал вопрос – как быть дальше. К середине июля 1941 года противник имел на советско-германском фронте 182 дивизии. А в резерве главного командования германских сухопутных войск было лишь четырнадцать дивизий (перед началом войны – 24). Наступать одновременно, успешно решать все поставленные перед Вермахтом задачи по плану «Барбаросса» явно не удавалось. Назрел первый большой кризис всей планируемой до 22 июня фашистской стратегии. В этих условиях при принятии решений крайне важную роль играли для гитлеровского военно-политического руководства данные разведки о силах, планах, вооружении и сосредоточении войск Красной Армии.
Следует учитывать и очень непростую и для Красной Армии обстановку с группировкой войск под Москвой. В середине июля 1941 года были образованы фронт резервных армий из шести армий и фронт Можайской линии обороны из трех армий для эшелонированной обороны на участке протяженностью 750 километров. Однако в условиях развернувшегося Смоленского сражения для подкрепления наших войск и с целью нанесения контрудара из их состава четыре армии 20 июля были введены в бой. Нужно отметить, что оставшиеся в резерве войска, объединенные с 30 июля в Резервный фронт, были в недостаточной части вооружены. Почти не было танков, совсем – авиации, мало ‑ тяжелой артиллерии, пулеметов, автоматического оружия, автотранспорта, личный состав был слабо обучен.
Крайне необходимо было выиграть время как для довооружения и обучения войск Резервного фронта, так и создания достаточно прочного в инженерном отношении комплекса оборонительных сооружений. Требовалось задержать врага и для более полной эвакуации на Восток важных промышленных предприятий, их персонала, дать возможность уйти или вывезти с попадающих под оккупацию районов страны миллионы советских людей. Каждый выигранный день имел жизненно важное значение – увеличивал экономическую мощь страны и уменьшал наши потери. А они были колоссальными. С июня по ноябрь 1941 года объем валовой продукции промышленности СССР сократился в 2,1 раза. Всего за вторую половину 1941 года из западных областей СССР было перебазировано на Восток 2593 промышленных предприятий, в том числе 1523 крупных. В тыловые районы страны по железным дорогам было эвакуировано 10,4 миллиона человек. В результате уже в четвертом квартале 1941 года удалось преодолеть спад в выпуске танков и артиллерии. А в марте 1942 года выпуск военной продукции только в восточных районах страны достиг уровня СССР к началу войны.
Каковы же были в этих тяжелейших условиях лета 1941 года задачи, ставившиеся в операции «Родина»? Во-первых, помешать противнику правильно оценивать действия советского военного командования – ложные цели выдавать за подлинные, а подлинные – за ложные. Во-вторых, внести колебания и разноголосицу в решения штабов фашистских войск из-за поступающей противоречивой информации, увеличить возможность принятия ошибочных решений на основе во многом ложной информации. В-третьих – максимально оттянуть ударные группировки Вермахта с центрального участка фронта на другие и помешать проведению немедленного штурма Москвы. В-четвертых – заставить ожидать ударов там, где их и не собирались наносить и в связи с этим израсходовать резервы на второстепенных направлениях. Главное – любой ценой выиграть время для создания более подходящих условий в неминуемой решающей битве за Москву. С этой целью передавались: дезинформация о численности, вооружении, районах сосредоточения группировок советских войск; о сознательном заманивании группы армий «Центр» для нанесения внезапных и мощных ударов на ее флангах с Севера и Юга с целью ее последующего разгрома; о развертывании большого числа хорошо вооруженных и обученных дивизий, значительного количества танков и авиации восточнее Москвы и в Подмосковья для перемалывания в ходе контрнаступления основных сил группы армий «Центр», если они все же решатся с ходу наступать на Москву; о переброске основных резервов советских войск под Киев, Одессу, Харьков, Ленинград с целью разгрома группы армий противника «Юг» и «Север», а бои в районе Смоленска – якобы отвлекающие, лишь бы сдержать врага на необходимое для наших войск время подготовки к контрнаступлению на южных и северных участках фронта. В ряде случаев мы сознательно преуменьшали наши силы, для возможности нанести сильный удар по неподготовленному противнику.
Характерно, что почти не было полностью ложных сообщений – некоторая часть правды хорошо перемешивалась со многими частями ложной информации и предлагаемая дезинформация выглядела вполне правдоподобной. Часто переброску одной дивизии выдавали за переброску нескольких, сосредоточение в том или ином районе 50 танков выдавалось за 200-300, на аэродромах вместе с эскадрильей боевых самолетов расставляли полк деревянных макетов. Если похищались или фотографировались военные документы, то они были подлинными, но тут же приходил приказ их или не исполнять, или переменить форму, или изменить содержание.
Контрразведчики блестяще использовали приблизительность общих знаний фашистской разведки в целом о наших Вооруженных Силах. Они всячески старались ввести врага в заблуждение. Вот как менялись оценки начальника Генерального штаба Вермахта генерал-полковника Ф.Гальдера под влиянием реального соотношения сил на фронте, в отличие от того, на что рассчитывали гитлеровские генералы, опираясь на данные своей разведки. Он указывал 8 июля 1941 года, что из 164 выявленных гитлеровцами стрелковых дивизий советских войск 89 полностью или частично уничтожены, на фронте осталось лишь 46 боеспособных дивизий, а наши резервы оценивал только в одиннадцать боеспособных дивизий. Перед началом Смоленского сражения немецко-фашистское командование считало, что наш Западный фронт сможет противопоставить группе армий «Центр» не более одиннадцати боеспособных дивизий. Ф.Гальдер в своем дневнике 11 июля самодовольно записал, что фронт противника, «в тылу которого уже нет никаких резервов, не может больше держаться». Но уже спустя всего двадцать дней, 1 августа он же вынужденно подсчитывает, что против группы армий «Центр» сражается 26,5 стрелковых, семь танковых и одна кавалерийская дивизия. Через неделю, 8 августа, с тревогой сообщает, что против группы армий «Центр» уже семьдесят соединений, в том числе восемь с половиной моторизованных. Девятого августа Гальдер констатирует, что если к началу войны немцы имели против себя около двухсот дивизий, то теперь насчитывают уже триста шестьдесят и делает печальный вывод, что колосс Россия был нацистским военным командованием недооценен.
Гальдер был весьма умело, введен в заблуждение, так как к 1 августа 1941 года в действующей армии было всего 290 дивизий. Но наши дивизии были малочисленнее немецких (7-8 тысяч человек в советской пехотной дивизии против 14-16 тысяч у немцев). Так что семьдесят мифических дивизий, или иначе двадцать процентов от всех пехотных частей Красной Армии могли оказывать реальное давление на решения фашистского военного командования, заставляло распылять силы, действовать с оглядкой.
Также далеко не случаен и серьезный просчет Ф. Гальдера, руководствовавшегося полученной от разведки информации, в отношении танкового потенциала Красной Армии. Второго июля 1941 года он отмечает в дневнике, что количество танков, имеющихся у противника, соответствует тридцати пяти танковым дивизиям. Из них на фронте обнаружено двадцать две танковые дивизии. На Дальнем Востоке пять танковых дивизий. Отсутствует восемь дивизий, и делает предположение, что три из них сосредоточены на севере, а пять советское может использовать в качестве оперативного резерва в центре и на юге. Через шесть дней, 8 июля, он самодовольно записывает в своем дневнике, что из двадцати девяти выявленных немцами танковых дивизий, двадцать дивизий целиком или большей частью уничтожены и только девять дивизий еще полностью боеспособны. Реально противнику удалось разгромить только десять наших танковых дивизий. Холодный душ крупного просчета в боеспособности и численности советских танковых частей пролился действительно довольно скоро. Уже в конце июля, давая общую оценку Вооруженным Силам Красной Армии, Гальдер с горечью отмечает: «Численность танковых войск у противника оказалась больше, чем предполагалось. Особенно отмечается упорство сопротивления противника». Большие колебания в оценке наших танковых сил не могли не тревожить военное командование Германии, заставляя с доверием относиться к сообщениям агентуры о неизвестных ему резервах русских, об их якобы значительном сосредоточении под Москвой или в других районах контрудара. Примечательно высказывание Гитлера по оценке и влиянию танкового потенциала и влиянию танкового потенциала Красной Армии после посещения им штаба группы армий «Центр» в Борисове от 4 сентября 1941 года: «Если бы я знал, что у них столько танков, я бы дважды подумал, прежде чем начать вторжение».
Такая широкомасштабная дезинформация о наших силах летом 1941 года вполне реальна, так как в последующем этот метод успешно применялся органами госбезопасности, действовавшими в тесном контакте с Генеральным штабом Красной Армии и использовались различные оперативные возможности для систематического введения противника в заблуждение относительно планов советского командования, передвижения войск, обстановки в тылу. Так, в период с 1 мая по 1 августа 1942 года фашистской разведке были переданы ложные сведения о сосредоточении на разных направлениях 255 стрелковых дивизий, трех танковых армий, шесть танковых корпусов, пятьдесят три танковых бригад, восемьдесят артполков, шесть кавалерийских дивизий и трех армейских штабов. В январе 1943 года гитлеровская разведка получила дезинформационные сведения о формировании в городе Горьком резервной армии, а также о выгрузке в северных портах 1300 самолетов и 2000 танков. Вряд ли надо подробно говорить о значении этих, ложных, сведений для обмана командования врага в тяжелейший период нового отступления наших войск на юге страны или в период Сталинградского сражения.
Конечно, дезинформация проводимая летом 1941 года не была такой масштабной, но следует учесть, что она, во-первых, сыграла свою роль, а во-вторых, чекисты только обучались этому очень сложному и трудному методу борьбы с противником. Когда было необходимо, врагу передавались и явно заниженные сведения о реальном сосредоточении наших сил.
Фашисты понимали, что советское командование силами резервов будет восстанавливать прорванный во многих местах стратегический фронт на Западном направлении. Действительно – какими силами? На самом же деле вместо трех отведенных с фронта дивизий, понесших потери, прибыли: одна дивизия из Москвы, три из Поволжья и Урала, четыре из Сибири и даже одна из Крыма ‑ всего двенадцать. Как считало военное руководство Вермахта, против группы армий «Центр» на рубеж рек Западная Двина и Днепр в это время выдвигались сорок восемь советских дивизий, не участвующие в боевых действиях.
Просчет в три-четыре раза в оценке противостоящих вермахту сил Красной Армии во многом спутал расчеты на быстрый разгром небольшого количества уцелевших советских дивизий и успешный захват Москвы. Характерно и преувеличение врагом численности наших перебрасываемых из резерва танковых сил. В ходе Смоленского сражения противник превосходил нас в танках в четыре раза. Гальдер, по данным отдела иностранных армий Востока (разведка Генерального штаба Вермахта, которую возглавлял опытный разведчик Р.Гелен), рассчитывал на появление на фронте групп армий «Север» и «Центр» шести свежих танковых дивизий, а также на то, что еще пять танковых дивизий имеется в оперативном резерве нашего командования. Это обстоятельство ‑ ожидание появления многочисленных танковых частей у советских войск ‑ привело, наряду с другими факторами, к отказу от умозаключения, что войска Западного фронта уже не в состоянии оказать серьезного сопротивления и что группа армий «Центр» способна провести дальнейшее наступление на Москву одними пехотными дивизиями. Девятнадцатого июля 1941 года главное командование Вермахта издало директиву № 33 о дальнейшем ведении войны на Востоке, а 23 июля ‑ дополнение к ней, в которой задача разгрома советских войск между Смоленском и Москвой и овладения столицей СССР возлагалась на 9-ю и 2-ю полевые армии. Вторая и третья танковые группы должны были разойтись после окончания боев в районе Смоленска, чтобы оказать поддержку войскам групп армий «Юг» и «Север». Но вывести танковые группы из грандиозного Смоленского двухмесячного сражения не удалось. Их ударная мощь в ходе ожесточенных боев была значительно подорвана.
Тем самым, Западный фронт, сам находясь в тяжелом положении, дал возможность укрепить оборону у Киева и Лужской оборонительной линии, остановить там врага. Одной из слагаемых успеха была успешная радиоигра чекистов, введших в заблуждение немецкое командование, через многочисленную контролируемую чекистами немецкую агентуру, о реальных и возможных советских силах противостоящих самой сильной группировке Вермахта ‑ группе армий «Центр».
Советским контрразведчикам, осуществляя операцию «Родина», приходилось учитывать и мощь вражеской разведки, ее довольно многочисленную агентуру, которую далеко не всю в условиях лета 1941 года могли выловить, а также достаточно квалифицированный уровень сотрудников спецслужб противника. На Московском направлении, например, действовало три Абверкоманды, девятнадцать Абвергрупп, разведывательный отдел 1-Ц штаба группы армий «Центр», около десяти особых и оперативных команд и других подразделений гитлеровских секретных служб.
Чекисты приложили большие и разнообразные усилия для надежного прикрытия железнодорожных узлов от вражеской агентуры. Это частые проверки документов, изменения в оформлении удостоверений, более тщательный контроль работы железнодорожников, широкая разъяснительная работа по повышению бдительности воинов Красной Армии, находившихся в дороге, и эвакуируемого и местного населения.
Люди с подозрительным поведением или с излишним любопытством немедленно задерживались для выяснения всех обстоятельств. И все это происходит в сумятице отступления, в условиях глубоких прорывов вражеских войск, при частых бомбежках станций, депо и вокзалов. В результате четкой деятельности контрразведчиков, фашистское командование уже на 26-й день войны, 17 июля, вынуждено было констатировать, что о работе русских железных дорог ясной картины нет. Гитлеровцы объясняли это тем, что постоянное и длительное наблюдение с их стороны за железнодорожным движением невозможно. Так был во многом перекрыт важный канал получения необходимой информации для противника.
Фашистский генеральный штаб мало знал, что делается перед фронтом войск Вермахта. Скажем, для Ф.Гальдера становится неясной линия поведения советского командования. На основании данных о переброске советских войск в тыл можно было полагать, что советское командование пытается сосредоточить свои подвижные соединения в глубине обороны и выиграть время. Сколько – знать было необходимо. С этой целью проводилась систематическая, воздушная разведка, и даже было увеличено производство самолетов «фоке-вульф», оборудованных специальной оптической аппаратурой. Авиационная разведка производилась на значительную глубину, включая районы Ленинграда, Москвы, Воронежа, Киева, Сталинграда и другие. Она фиксировала интенсивное перемещение войск, гражданского населения, движение железнодорожных эшелонов в обе стороны ‑ к западу и востоку.
Воздушная разведка гитлеровцев могла дать, хотя бы частично, довольно объективную картину происходящих в реальности переброски войск и эвакуации промышленности и населения. С ней велась беспощадная борьба и для этого из крайне ограниченного состава нашей уцелевшей боевой авиации выделялись специальные подразделения, укомплектованные опытными летчиками и новейшей авиационной техникой. Результаты были достаточно эффективны, как это видно из признаний самого гитлеровского высшего командования. Так, 21 июля 1941 года генерал Богач, докладывал Гальдеру о воздушной обстановке, указал, что численность разведывательных авиачастей временами сильно сокращается, есть трудности в пополнении материальной части из-за потерь. И указывает – «воздушная разведка не дала никаких существенных результатов» за небольшим исключением о переброске советских войск из района Бологое к Ленинграду, Старой Руссе и Великим Лукам. Да и в этом случае закономерен вопрос: то ли у нас не хватало сил ПВО, чтобы надежно прикрыть все большие переброски войск, то ли нацистам умышленно дали возможность, в рамках операции «Родина», увидеть то, что подтверждало дезинформацию о накапливании больших сил для контрудара на фланге группы армий «Центр» и против группы армий «Север», используя для этого обычную перегруппировку наших войск. 30 июля – новый доклад генерала Богача о резком снижении численности самолетов в разведывательных эскадрильях. Он вынужден констатировать, что из десяти эскадрилий шесть, по меньшей мере, придется в полном составе отправить на восстановление. Аналогичное положение, отмечает сам Гальдер, наблюдается и в ночных разведывательных эскадрильях. Резко сокращалась возможность быстрой и объективной информации для командования ударных сил Вермахта из-за нехватки материальной части и трудностей в пополнении личным составом авиаразведки. Указывалось, что из-за всего перечисленного необходимо отобрать войсковые разведывательные эскадрильи у моторизованных корпусов, что если даже собрать все имеющиеся самолеты типа «Хенкель» и пополнить подразделения, имеющие на вооружении данный тип самолетов, то и этих машин хватит лишь до 1 сентября. Так советские летчики не дали возможности вражеской авиаразведке вести систематическую и длительную работу и во многом помогли успешному проведению в жизнь операции «Родина».
Следует учитывать и то обстоятельство, что любая разведка, особенно в период войны, допускает возможность перехвата противником определенного числа своих агентов и ведения с их помощью радиоигр. Перед советской контрразведкой стояла сложная задача: убедить фашистские разведорганы в правдивости передаваемой информации, исключить мысль о ведении радиоигры, добиться доверия к получаемой во вражеских штабах информации из советского тыла и прифронтовой полосы. Трудность заключалась и в том, что кредит доверия к сведениям агентов к середине июля 1941 года был уже почти исчерпан, так как те части и соединения, о которых они передавали данные весной 1941 года, были уже разбиты или со значительными потерями вырывались из окружений и с тяжелыми боями отступали на восток. А передаваемая с начала июля дезинформация о перебросках большого количества наших войск и военной техники могла возбудить подозрения из-за довольно быстрого продвижения группы армий «Центр» и отсутствия реального противодействия хотя бы части переброшенных, по ложным сведениям, сил на фронте. Можно по ‑ разному относиться к примененным чекистами формам и методам убеждения врага в правильности передаваемой дезинформации. Видимо, не все и не всегда отвечало принципам гуманизма, но главное было – выиграть время, перехитрить врага, спасти Москву. В этом случае считалось справедливыми приносимые жертвы.
С целью усиления доверия гитлеровцев в получаемым их разведкой сведениям был проведен в июле второй этап операции «Родина» (кодовое название «Стрела»). Для этого, по словам С.А. Ваупшасова, в одной из спецмашин в разбомбленной автоколонне штаба дивизии был специально подброшен совершенно секретный действующий шифр для радиопереговоров ряда штабов нашего командования. По воспоминаниям же А.К. Спрогиса, был инсценирован переход к гитлеровцам офицера-шифровальщика с кодовыми таблицами, который якобы убедился в непобедимости немецкой армии и был немцем по матери. Вполне вероятно, что были применены оба этих варианта. Сознательно рассекреченный шифр нами не отменялся на протяжении около двух недель.
Но все же, полученные немецкой разведкой шифры были действительны только для некоторых частей и соединений, но не для большинства. Цельной картины происходящего гитлеровцы так и не смогли составить. Однако захваченные различные военные документы и сведения, полученные от некоторых пленных, данные о советских частях на фронте, подтвержденные информацией подразделений войсковой разведки – все это убеждало нацистов в полной достоверности расшифрованных указаний наших штабов. И через несколько дней в эту подлинную, хотя и частичную, информацию стали добавлять и искажающие, и неточные данные о силах Красной Армии, о замыслах нашего командования, отражающие задачи и цели операции «Родина».
Советская контрразведка широко использовала для дезинформации противника и введение в заблуждение его штабов обман вражеской радиоразведки, умышленно допуская «утечку» секретных данных о количестве и направлениях передвижения наших войск. Это облегчалось тем обстоятельством, что радиосвязь в Красной Армии к лету 1941 года была развита недостаточно, в основном, полагались на проводную. Так на 22 июня 1941 года войска Западного особого военного округа (Беларусь) были по штату обеспечены радиостанциями (армейскими и аэродромными) только на 26‑27 процентов, корпусные на 58%, ротные на 70 процентов. По штату в нашей дивизии должны были быть 22 рации (а в немецкой – 70 раций). Однако этот крупный недостаток по оснащению наших войск рациями помог чекистам взять под неослабный контроль всю работу немногочисленных штабных радиостанций, и за действительные нарушения правил и секретности связи расплата была быстрой и беспощадной. Наряду с этим, контрразведчики оперативно наладили в рамках операции «Родина» снабжение фашистов ложными или явно преувеличенными данными, давая достаточно большую пищу для служб радиоперехвата врага. Немецкая пехотная дивизия имела в обязательном порядке радиороту, а в ней взвод радиоразведки из трех радиоотделений и отделение наблюдателей. Этот взвод прослушивал разговоры радиостанций частей Красной Армии, пеленговал их и вызывал на них артиллерийский огонь или бомбардировочную авиацию.
Например, 4 июля 1941 года гитлеровское высшее командование знало о перехвате накануне передававшегося по радио русского приказа о том, что на Западной Дине надо располагать лишь отдельные группы на переправах. И начальник генерального штаба Вермахта делает вывод, что следует считать, что противник больше не располагает достаточными силами для серьезной обороны своего нового рубежа по Западной Двине и Днепру. Эта ловко подброшенная информация позволила во многом скрыть развертывание с конца июня 1941 года на рубеже среднего течения Западной Двины и Днепра второго стратегического эшелона войск ‑ 5 армий (20-я, 19-я, 20-я, 16-я, 21-я), являвшихся основной силой, прикрывающей Московское направление. А гитлеровцы пока делали на основе недостоверных данных оптимистические для себя выводы: «В ходе продвижения наших армий все попытки сопротивления будут, очевидно, быстро сломлены. Тогда перед нами вплотную встанет вопрос о захвате Ленинграда и Москвы». Через шесть дней. К 10 июля, подвижные соединения группы армий «Центр» вышли на Днепр и Западную Двину. И здесь началось их мучительное и кровавое протрезвление – вместо остатков разбитых войск и отдельных очагов сопротивления вермахт встретил кадровые и довольно хорошо оснащенные военной техникой свежие советские дивизии и армии, втянувшие главные силы врага в тяжелое двухмесячное сражение и остановившие его в районе Смоленска.
Отвлекали силы и внимание противника от московского направления и радиосообщения о крупных сосредоточениях наших войск и на стыке групп армий «Центр» и «Юг». Так, 7 июля начальник генерального штаба ОКХ писал, что по данным радиоразведки в районе Пинских болот, перед левым крылом армии Рейхенау находятся четыре корпуса противника, но где они дислоцируются точно неизвестно, так как войска Вермахта не вошли с ними до настоящего времени в соприкосновение. Однако через шесть дней опытное фашистское командование начинает сомневаться в их существовании, подозревая возможность выдачи значительно меньших сил за большие. Гальдер отмечает: «Коростенская группа (силой до 4-х дивизий) состоит из соединений, располагавшихся ранее у Пинских болот. Сведения о том, что эта группа состоит из четырех корпусов, я считаю сомнительными. Эти сведения основываются на данных радиоразведки (возможно, сознательное введение нас противником в заблуждение)».
Для придания большей достоверности передаваемой дезинформации, для того, чтобы в зародыше подавить у опытного врага любые сомнения в правильности получаемых данных, а с каждым днем расхождение ложного и подлинного в переговорах и приказах штабов увеличивалось и отнюдь не в пользу истины, была проведена новая фаза второго этапа операции.
Для окончательного убеждения гитлеровского командования было использовано даже предание суду военного трибунала группы генералов Западного фронта во главе с командующим и нескольких генералов и офицеров Северо-Западного и Южного фронтов. Сталину, чтобы не подорвать свой авторитет, нужно было быстрее найти виновников происходящего в Белоруссии поражения наших войск в приграничных сражениях. Уже 30 июня с Западного фронта был отозван командующий генерал армии Д.Г. Павлов, а на его место назначен маршал С.К. Тимошенко. Вместе с ним членом Военного Совета Сталин направил Л.З. Мехлиса. В течение четырех дней тот «установил преступную деятельность ряда должностных лиц, в результате чего Западный фронт потерпел тяжелое поражение» и сообщил 6 июля 1941 года, что Военный Совет фронта решил арестовать и предать суду прежний руководящий состав Западного фронта. На эту телеграмму Сталин ответил в тот же день: «Тимошенко, Мехлису, Пономаренко. Государственный комитет обороны одобряет ваши мероприятия по аресту… и приветствует эти мероприятия как один из верных способов оздоровления фронта».
Судьба должностных лиц прежнего руководства Западным фронтом была заранее предрешена, как «козлов отпущения» за стратегические промахи самого Сталина и его ближайшего военного и политического окружения в связи с неудачным для нас началом войны, непринятием ими всех необходимых мер по обеспечению обороны страны от угрозы надвигающейся фашистской агрессии. В этих условиях контрразведка, зная о неминуемости их расстрела, вставила в один из них пунктов обвинения слова о допущенном захвате гитлеровцами секретных переговорных шифров и не принятие своевременных мер по их замене. Информация об осуждении офицеров и генералов была опубликована в газетах и нашла подробное изложение в постановлении ГКО от 16 июля 1941 года, которое доводилось в действующей армии вплоть до командиров рот. Очень скоро сведения об этом документе получили в Берлине.
Принимая меры для дезинформации противника в области радиопереговоров в эти крайне опасные июльские дни, когда счет шел даже не на сутки, а на часы – нужно было успеть занять стратегический оборонительный рубеж, подтянуть и развернуть хотя бы основную массу наших войск, выиграть хотя бы несколько дней для создания сплошной и достаточно прочной линии фронта, дали нужные результаты. 12 июля 1941 года, в самом начале Смоленского сражения, противник удовлетворенно констатировал: «Результаты анализа данных радиоразведки – ничего нового», а 18 июля, когда сражение развернулось на многих направлениях с участием значительного количества войск с обеих сторон, нацисты по-прежнему доверяли полученным сведениям радиоперехвата: «Данные службы радио прослушивания соответствует сведениям, полученным из трофейных документов и показаний пленных». Впереди им грезилось скорое взятие Москвы и успешное окончание «молниеносной» войны после разгрома отчаянно сопротивляющихся якобы последних советских частей и соединений.
Гитлер также был уверен, что к концу августа «он как-нибудь справиться с СССР». В эйфории от первоначальных успехов Восточного похода он 14 июля 1941 года отдал приказ о подготовке к реорганизации Вермахта, в предвидении переноса основных усилий на борьбу с Англией и США, которая должна была выйти на первый план ввиду разгрома СССР. Однако прошло чуть более недели и оказалось, что вопреки предвоенным предположениям, большие успехи Вермахта не привели к прекращению сопротивления Красной Армии, и германское высшее командование столкнулось с проблемой нехватки сил для одновременного наступления на всех трех стратегических направлениях.
Если группа армий «Центр» смогла прорваться в середине июля 1941 года в район Смоленска, то наступление группы армий «Север» завязло на Лужском рубеже, группа армий «Юг» оказалась втянута в затяжные бои между Киевом и Винницей. Вставал кардинальный вопрос – что делать дальше? В этой ситуации особенно важно было получение немецкой разведкой данных о силах и планах Красной Армии.
Внезапно были сменены все шифры в советских штабах и гитлеровские войска и их командование оказались не готовыми к наступательным действиям советских войск из не предполагаемых ими районов сосредоточения и по неизвестным им планам нашего командования. План «блицкрига», расписанный до мелочей и по дням, затрещал до основания и потребовал внесения серьезных корректив. С 21 июля по 7 августа советское командование предприняло попытку организовать и провести контрнаступление на главном стратегическом направлении с целью сорвать замыслы врага активными действиями наших войск. Бои носили встречный характер и отличались ожесточенностью. Наступало с нашей стороны пять оперативных групп, включавшие десять стрелковых, две танковых и пять кавалерийских дивизий. Однако наступавшие оперативные группы оказались недостаточно мощными, и взаимодействие между ними организовать не удалось. И хотя в ходе контрнаступления смоленскую группировку разгромить не смогли, фашистские войска лишились свободы маневра, немецкие дивизии оказались скованными на всех участках фронта, а 16-я и 20-я армии сумели прорвать кольцо окружения.
Нужно отметить, что дезинформация разведки врага о силах наступающих советских войск продолжалась и в эти дни. Фашисты 28 июля отмечали, что их разведка обнаружила пять стрелковых и три танковых дивизий на направлении действия одной из оперативных групп, которая вела сильные атаки. На самом деле в составе оперативной группы под командованием В.Я. Котелова были лишь две стрелковые и одна танковая дивизии. Преувеличение наших сил вносило нервозность в войска агрессора и искажало его командованию действительную картину боев. Темп наступления гитлеровцев в начале августа снизился, по сравнению с первыми днями войны, в среднем с 30 до 6‑7 километров в сутки. Войска Западного фронта, поддерживаемые резервами Ставки, заставили врага рассредоточить свои силы на огромном фронте от Великих Лук до Мозыря. Были сорваны планы германского генерального штаба на беспрепятственное продвижение к Москве после захвата Смоленска.
В этой ситуации германское военно-политическое руководство все более склонялось к тому, чтобы за счет группы армий «Центр» усилить фланговые группировки Восточного фронта. Впервые эта идея была оформлена в директиве № 33 от 19 июля, а уже 23 июля в дополнение к этой директиве Гитлер утвердил, по его мнению, «идеальный план»: пехотные дивизии группы армий «Центр» должны были самостоятельно наступать на Москву. А танковые соединения развертываются на расходящиеся направления (север и юг).
Но группа армий «Центр» понесла большие потери, ее ударная мощь была подорвана. 30 июля 1941 года была отдана высшим фашистским руководством директива № 34, в которой группе армий «Центр» приказывалось прекратить наступление на Москву и перейти к обороне. Это вынужденное решение, так как потерпела провал попытка фашистов захватить Москву сходу. На главном направлении, где были сосредоточены основные силы Вермахта, острие «блицкрига» было надломлено. В таком исходе, наряду с героическим сопротивлением советских войск, умелыми действиями нашего командования, сыграла немалую роль деятельность советской контрразведки, которая сумела переиграть нацистскую разведку и во многом дезинформировать высшее командование гитлеровцев.
В этих конкретных условиях Гитлер и большинство генералов генерального штаба, командование Вермахта, командующие группами армий «Юг» и «Север» и их штабы решили переориентировать главные усилия войск на захват Ленинграда и Украины, а позже вернуться к проблеме взятия Москвы. Делая хорошую мину при плохой игре, Гитлер заявил, что вообще он особенно и не стремится в Москву, что «для него Москва не более чем название места», в то время как «захват Ленинграда – символа большевизма с 1917 года может привести к полному краху уже сильно ослабленного советского режима».
На главное место выходили другие военно-политические и экономические приоритеты. Третьего августа 1941 года фюрер объявил первой целью захват Ленинграда, так как это отрежет русских от Балтики и обеспечит бесперебойное поступление шведской железной руды. Гитлер дал понять, что Украина – его приоритет. Ее полное завоевание, по его мнению, даст нацистскому рейху огромные ресурсы – зерно, мясо, уголь, металл, обрабатывающую промышленность. Еще в плане «Барбаросса» указывалось: «на юге – своевременно занять важный в экономическом и военном отношении Донецкий бассейн». Гитлер 28 июля объявил, что для Германии «промышленный район вокруг Харькова важнее, чем Москва». Но не все германские генералы поддерживали эту точку зрения Гитлера и руководства Вермахта. В генеральном штабе в конце июля рассматривался вопрос о десятидневном отдыхе для пополнения соединений перед началом нового наступления (на фронте группы армий «Центр»). Ф.Гальдер сказал, что если такой отдых будет предоставлен, то они смогут довести боевой состав танковых соединений до 60–70% штатного состава. Предусматривалось также выделение нескольких танковых дивизий для пополнения остальных дивизий. Начальник генерального штаба поддерживал идею скорого возобновления наступления на Москву любой ценой.
29 июля 1941 года по настоянию Генерального штаба командование дивизий Вермахта начали готовить новое наступление на Москву. Командующий группой армий «Центр» фон Бок и оба его танковых заместителей – Гудериан и Гот (командующие танковыми группами) единодушно высказались за наступление на Москву. Определяющим становится фактор времени, необходимого для подготовки к новому наступлению. Гудериан утверждал, что он будет готов к 15 августа, Гот – к 20 августа, фон Бок заявил, что силы группы армий «Центр» достаточны для этой задачи.
Но одно дело желание, а совсем другое – возможности. По докладам ярых сторонников скорейшего наступления на Москву генералов Гудериана и Гота, их танковые группы, основательно потрепанные нашими войсками, не могли продолжать наступление и нуждались в пополнении. Кроме того, фланги группы армий «Центр» оказались открытыми с севера и юга для возможных ударов советских войск. Это вынудило фашистское командование повернуть часть сил с московского направления на север и юго-восток.
Другой вопрос, насколько реальными были наши возможности для мощных и действенных ударов по флангам врага. Но о создании необходимой информации о таких возможностях и доведение ее до командования врага позаботилась советская контрразведка. Она сумела дать такие сведения через агентов противника, заброшенных на нашу территорию, выявленных и контролируемых ею радистов и резидентов; через своих сотрудников, внедренных в разведывательную сеть врага по легендам якобы перешедшие на службу к немцам из-за алчности, обиды на советскую власть или в связи с обещанием немцами хорошей жизни – открытии торговли, своего дела или службы в полиции после оккупации; через направлении преданных людей под видом военнопленных, которые должны были дать нужные нам сведения при допросе, передать ложные или преувеличенные данные в штаб противника.
Отражением этой информации были записи начальника немецкого генерального штаба Ф. Гальдера 31 июля: «Имеются сведения о переброске противником войск из глубины в двух направлениях – против центра и против южного фланга группы армий; кроме того, наблюдается движение походных колонн противника от Москвы к центральному участку фронта группы армий». Запись 1 августа: «Показания военнопленных о переброске дивизий по железной дороге и пешим маршем к фронту группы армий «Центр». Возможно, погрузка будет производиться в районе Брянска и Орла. Откуда прибывают эти войска, установить невозможно; 2-го августа ‑ «Радиоразведкой установлено, что в тылу противника кроме уже известных нам 29 дивизий, имеется еще тринадцать дивизий, которые находятся на формировании. Кроме того, установлен штаб новой 31-й армии; 5-го августа ‑ «Группа армий «Центр» вынуждена в неудовлетворительных условиях наводить порядок на своих обоих флангах»; 7 августа – «В тылу у противника, в районе западнее Вязьмы, установлено сосредоточение новой группировки в составе пяти дивизий». С учетом такой «достоверности» информации принимались гитлеровским военно-политическим руководством важнейшие решения. В дополнение к директиве № 34 от 12 августа прямо говорилось: «Лишь после полной ликвидации угрожающего положения на флангах и пополнения танковых групп будут созданы условия для наступления на широком фронте глубоко эшелонированными фланговыми группировками против крупных сил противника, сосредоточенных для обороны Москвы».
Советское командование, имело определенное представление о планах противника, как от своей военной разведки, так и анализируя направленность, многочисленность и регулярность заданий фашистских служб на получение информации о советских войсках для подконтрольного органам госбезопасности вражеской агентуры, принимало действенные контрмеры. 16 августа армии Западного и Резервного фронтов начали наступление, и в боях под Ельней гитлеровцам было нанесено серьезное поражение. Во второй половине августа командованию группы армий «Центр» пришлось вывести из под Ельни сильно потрепанные две танковые и моторизованную дивизии, моторизованную бригаду, и заменить их пятью пехотными дивизиями. Передышки, на которую рассчитывали в генштабе Вермахта, не получилось. Основные силы 3-й танковой группы, которую намечалось после захвата Смоленска бросить в наступление на Ленинград, были во многом скованы на западном направлении. Это облегчало положение Красной Армии в августе-сентябре 1941 года под Ленинградом.
Так, общими усилиями контратакующих советских войск и действиями советских контрразведчиков был выигран у врага целый месяц – август. 19 августа Г.К. Жуков, член Ставки и командующий войсками Резервного фронта доносил: «Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на путях к Москве… временно отказался от удара на Москву». И отмечал поворот части сил группы армий «Центр» в южном направлении.
Г.К. Жуков предупреждал Сталина о вероятности окружения Киевской группировки, но Сталин и начальник Генштаба Шапошников не прислушались. В результате, в конце лета – начале осени 1941 года советские войска постигла новая катастрофа, на сей раз на левобережье Днепра. Только в плен было взято 665 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В той же телеграмме в Ставку от 19 августа Жуков указывал: «… после чего главный удар на Москву в обход Брянских лесов и на Донбасс».
Снова резко усилилась опасность нового броска на столицу группы армий «Центр» командование которой хотело использовать удачную обстановку на юге. Главнокомандующий сухопутными войсками В. Браухич еще 18 августа изложил свои соображения Гитлеру, «доказывая, что Москвой и Московским промышленным районом можно овладеть в течение двух месяцев – сентябрь и октябрь, но при условии, если 2-я и 3-я танковые группы не будут отвлекаться на другие направления». Он также полагал, что группы армий «Юг» и «Север» смогут без помощи группы армий «Центр» выполнить поставленные перед ними задачи на Украине и под Ленинградом. Его идеи разделял Ф.Гальдер, который считал возможным захват Москвы и Украины и подчеркивал, что необходимо все силы группы армий Бока («Центр») направить на захват Москвы.
Противоречия в нацистской военной верхушке Германии по вопросу стратегии дальнейшего ведения войны резко обострились и вылились в организацию антигитлеровского заговора группой офицеров штаба группы армий «Центр». Штаб группы армий «Центр» ощущал себя элитой германского офицерства. Группа офицеров во главе с генерал-майором Х. фон Тресковым и фон Шланбредорфом, узнав о намерении Гитлера посетить штаб фельдмаршала фон Бока, решила арестовать «ефрейтора», затем судить его военным судом и восстановить традицию, когда армия является арбитром в государственных делах Германии, высшим аналитическим советом и средоточием власти в рейхе. Шланбередорф и Тресков решили остановить автомобиль с Гитлером и посадить вождя нацистов под «охрану». О дальнейшем офицеры предпочитали не задумываться. Как крайний вариант, если остановить автомобиль не удастся, предполагался снайперский выстрел в фюрера. В определенном смысле это была подготовка к выступлению 20 июля 1944 года.
Возможно, если бы заговорщики преуспели, фельдмаршал Бок согласился их возглавить. Но в текущей ситуации он не хотел рисковать, так как перед ним маячила манящая перспектива стать национальным героем и покорителем Москвы. Бок не принял активного участия в заговоре, хотя и знал о нем.
Планы заговорщиков были перечеркнуты очень сильной охраной Гитлера. Войска СС прикрывали его на всем пути продвижения. На протяжении всего визита в штаб группы армий «Центр» группе молодых германских офицеров не удалось ни разу даже приблизиться к фюреру, не говоря уже о том, чтобы произвести выстрел.
Анализируя возрастающую день ото дня активность врага на московском направлении, учитывая складывающееся тяжелое для нас положение на юге и, возможное в результате этого, высвобождение значительных сил противника (2-й армии и танковой группы), пополнение материальной частью и личным составом танковых соединений врага, советские контрразведчики провели последний этап операции «Родина» (кодовое название «Москва»), направленные на максимальное затягивание времени вражеской атаки на столицу. А этого добиться было возможно только одним путем – не дать возможности гитлеровцам собрать в ближайшее время достаточно мощный ударный кулак в группе армий «Центр». Прежние методы уже не годились – войска Вермахта прорвали Лужскую линию и теснили наши войска к Ленинграду. А под Киевом обстановка осложнялась с каждым днем. Ряд переданных сообщений от агентуры, как убедилось на своем горьком опыте вражеское командование, были ложными. Радиоигра с шифрами была уже исчерпана. Воздушная разведка и часть неразоблаченной нацисткой агентуры передавали объективную информацию. Нужен был точный достоверный для гитлеровского руководства и нетривиальный подход. И он был найден.
Начался третий этап операции «Родина». Группой офицеров Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии под руководством генерал-майора А.М. Василевского, заместителя начальника Генерального штаба, будущего Маршала Советского Союза и дважды Героя Советского Союза был составлен ложный план стратегических действий советских войск под кодовым названием «Бородино». По нему намечалось осуществление двух взаимосвязанных операций. Во-первых, если группа армий «Центр» начинает наступление на Москву в ближайшее время, то, на центральном участке, войска Западного фронта быстро отступят, избегая окружения, до Можайска, заманивая ударные части танков и мотопехоты врага, одновременно удерживая фланги, и здесь быстро их разгромят, введя в бой значительные резервы. Затем, перейдя в общее контрнаступление, будут бить соединения группы армий «Центр», по частям с участием войск северного фланга. Во-первых, перекинув мощные моторизованные силы советских войск на южный участок советско-германского фронта и сохраняя стабильность обороны по Днепру, нанести внезапный фланговый удар в тыл группы армий «Центр» с задачей окружения ее основных сил, втянутых в это время в бои под Москвой. Все документы были детально разработаны и выполнены на подлинных бланках с предварительным утверждением данного плана начальником Генштаба Б.М. Шапошниковым. На документах имелись и соответствующие одобрительные резолюции ряда членов Ставки и Государственного Комитета Обороны, а также указания согласовать сроки и силы намечаемой стратегической операции с командованием фронтов.
Советская контрразведка сделала основную ставку на плохую осведомленность фашистского командования о наших реальных силах, о количестве новых типов танков и самолетов, о незнании действительных районов сосредоточения наших резервов и их вооруженности и обученности. Учитывался и психологический момент: явная недооценка Советских Вооруженных Сил до войны и переоценка собственных возможностей и резкое протрезвление под нарастающим сопротивлением Советский войск, срыва плана в самом начале войны разгромить основные части и соединения Красной Армии с ходу взять Москву. Контрудары оперативных групп армий, тяжелые бои в районе Ельни и Духовщины, колоссальные потери в военной технике и в войсках – все это вынуждало вражеское командование учитывать возможность более крупных и успешных операций советских войск.
Наметки этого плана, дающие представление о его составляющих, были упакованы в специальные металлические контейнеры для перевозки особо важных и секретных документов и с соответствующей охраной на транспортных самолетах в середине августа 1941 года направлены в штабы фронтов. Один из них взлетел прифронтового аэродрома и не имея истребительного прикрытия, ночью попытался проскочить над недавно занятым врагом районом, но загорелся и рухнул. Члены экипажа и охрана успели выпрыгнуть с парашютами. Часть из них погибли в бою с прибывшим к месту катастрофы подразделением фельджандармерии (ГФП) и у них были обнаружены документы, подтверждающие перевозку особо секретного груза и удостоверения сотрудников НКГБ, сопровождающих его. Двоим, используя отвлечение врага огнем товарищей, удалось вырваться из кольца, и уже через сутки успешно перейдя линию фронта доложить об успешном выполнении специального задания. Из-под обломков самолета гитлеровцы извлекли уцелевшие контейнеры и после ознакомления с якобы «совершенно секретными» документами немедленно передали их в Берлин, в генеральный штаб и ставку фюрера.
О захвате самолета-курьера под Витебском с очень ценными материалами, который совершил воздушную посадку, свидетельствует и обобщенная сводка событий из СССР № 31 переданная полицией безопасности и СД в Берлин. В ней также отмечается: «4-й армией захвачен в плен сын Сталина от первого брака. Он является старшим лейтенантом танковых войск (фашисты ошиблись – он был артиллеристом). О военных делах до сих пор показаний он показаний не дал, а только о политических и хозяйственно-политических вопросах, а также сообщил некоторые интересные подробности из жизни его отца».
Наряду с подбрасыванием карт и документов посредством самолета, советская контрразведка, по всей вероятности, провела и параллельную подброску врагу карт Генерального штаба в разгромленном штабе части. В оперативной сводке из СССР полиции безопасности и СД № 73, как о крупном успехе сообщается, что айзацкомандой девять (особое подразделение СС) вблизи Новых Светлян (Смоленская область), наряду с личными делами офицеров русского артиллерийского полка и учебниками по тактике, найдено около двух тысяч карт русского генерального штаба. Сообщение СД продолжает: «Так как на картах были сделаны различные пометки, представляющие в первую очередь военный интерес, они были направлены командованию Вермахта».
Был задействован по передаче противнику стратегической информации и «Николай Орловский» ‑ «дипломатический канал». По словам С.А. Ваупшасова, переданные им вражеской разведке данные не дублировали материалов авиа «спецрейса», но дополняли и уточняли ряд их положений. О степени важности и доверия к полученной информации свидетельствует высокая оценка гитлеровцами «услуг» «Орловского» ‑ ему было присвоено офицерское звание и он награжден «Железным крестом». Особым распоряжением «Орловскому» также предоставлено немецкое гражданство, как чистопородному арийцу.
На фоне явной пробуксовки плана «Барбаросса» возникли и усиливались споры и разногласия в среде фашистской военно-политической верхушки о дальнейших операциях Вермахта, об их направленности. Конечно, определяющими составляющими принципиального решения по предложениям Браухича и Гальдера, поддержанного Йодлем – главным военным советником фюрера, были интересы германских монополий, алчуще взиравших на богатства Украины, Крыма, Кавказа, а также военно-стратегические расчеты по захвату или блокаде Ленинграда, уничтожению Балтийского флота и ликвидации северного участка советско-германского фронта с будущим использованием его сил для штурма Москвы. Кроме того, Гитлер и ряд поддерживающих его точку зрения генералов считали, что лишив Советский Союз продовольственной базы юга страны, чугуна, проката, угля Донбасса, Запорожья, Харькова, Ростова; перекрыв поступления майкопской, грозненской и бакинской нефти, нанесут нам полное поражение, так как будет в решающей степени подорвана экономическая база ведения войны. Они не верили в возможность эвакуации значительной части промышленности на восток СССР и быстрого налаживания выпуска военной продукции в Сибири и в Средней Азии. История зло посмеялась над их явной недооценкой мощи экономики СССР и трудового героизма людей. Но для эвакуации сотен крупных предприятий и миллионов людей, для развертывания их работы нужно было время. «За» и «против» были как у московского, так и у южного вариантов гитлеровского командования. Завладение немецким командованием «путем действий немецкой разведки» ряда «документов» советского Генштаба, и полное им доверие немцев, помогло дезинформации высшего руководства нацистского рейха и направлению их усилий в благоприятное для нас русло ‑ в сторону меньшего зла для нашей перестраивающейся на военный лад страны.
21 августа 1941 года Гитлер дал директиву, имевшую, по словам начальника генерального штаба Гальдера – «Решающее значение для всей Восточной компании». Директива гласила: «Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов по реке Донец и блокирование путей подвоза русской нефти с Кавказа. На севере такой задачей является окружение Ленинграда и соединение с финскими войсками… Войсками группы «Юг» будет обеспечена возможность … продолжать наступление в направлении Ростов, Харьков».
Гитлер приказал 2-й танковой группе и 2-й армии продолжать наступление на юг, чтобы выйти в тыл киевской группировке советских войск. Также было принято решение о дополнительном усилении группы армий «Север» за счет левого крыла группы армий «Центр». После такого ослабления группы армий «Центр» перед ней в директиве от 21 августа ставилась задача «отражать атаки противника на центральном направлении на таком рубеже, оборона которого потребовала бы минимального расхода сил».
Операция «Родина» и на третьем этапе сработала. В Берлине поверили и в угрозу с юга, и в предполагаемые наши контратаки на центральном участке, и в опасность на северном фланге.
В результате распыления войск, перехода, пусть временного, к обороне на решающем, московском направлении, переориентация ударов главных сил на север и юг советско-германского фронта 27 августа 1941 года высшее командование Вермахта (ОХВ) сделало печальный для себя вывод, что СССР, видимо, не будет полностью разгромлен в течение 1941 года, а поэтому на первом месте стоит продолжение Восточной компании в 1942 году на южном крыле Восточного фронта, что будет иметь большие политические и экономические последствия.
Всего через два месяца после начала войны, высшее фашистское командование, видя невозможность взять Москву, где оно сосредоточило основные силы Вермахта, вынуждено было констатировать провал главной идеи плана «Барбаросса» – идеи «молниеносной войны». Начиналась затяжная война, соревнование военных экономик и технологий, где шансы на победу у Германии были небольшими. И это положение не смогло изменить даже отчаянное и мощное октябрьско-ноябрьское наступление вермахта на Москву – операция «Тайфун». Было потеряно главное ‑ время. Гитлер был вынужден заявить военному командованию группы армий «Центр» еще в августе 1941 года по поводу их сообщений о все возрастающих силах Красной Армии и все более увеличивающихся потерях немецких войск: «Если бы я знал, что те цифры, которые вы приводили в своих докладах, верные, я бы, думаю, вообще не начал эту войну».
Но главное заключалось в том, что в сентябре гитлеровцы не смогли начать новое наступление на Москву. Был выигран еще целый месяц для усиления обороны страны, для мобилизации всех резервов на нужды фронта, для перевода всей экономики на военные рельсы. Наступление фашистских войск на Москву смогло начаться только 30 сентября – 2 октября 1941 года в результате крупного поражения наших войск на Украине и блокирования Ленинграда. Так началась беспримерная московская битва, в ходе которой был окончательно похоронен план «Барбаросса» и стратегия «молниеносной войны». Это наступление гитлеровцев, задействованные в нем силы и приблизительные сроки начала не были тайной для советских чекистов и их добровольных помощников в тылу врага – партизан. Как отмечает П.А. Судоплатов, бывший в это время начальником Особой группы при наркоме внутренних дел СССР, о возможном скором наступлении немцев на Москву разведка предупредила еще в 20-х числах сентября 1941 года (сразу же после захвата немцами Киева). Оставалось десять дней до начала немецкого «решительного броска». В сентябре 1941 года были доложены органами госбезопасности СССР Государственному Комитету Обороны и командованию Красной Армии данные о сосредоточении крупных сил немецких войск в районе Ярцево, Сафоново и Духовщины, когда немцы готовили крупное наступление на Москву. На временно оккупированной территории Белоруссии в 1941 году были собраны и переданы командованию Красной Армии данные о тридцати пяти аэродромах и посадочных площадках противника, о двадцать одной базе и артиллерийском складе в районах Барановичей, Минска, Борисова, Орши, Пинска, Бобруйска и в других пунктах, о двенадцати штабах немецких частей. В сентябре 1941 года партизанские разведчики Витебской области передали через своего связного за линию фронта сведения о сосредоточении крупных танковых и авиационных сил для наступления на Москву и об ориентировочных сроках его начала.
Советское командование в результате операции контрразведки «Родина» смогло получить два с половиной месяца для организации устойчивой обороны Москвы и с помощью разведки органов госбезопасности выяснить силы и время наступления врага. То, что не все и не всегда предоставленные возможности отсрочки наступления противника были нами достаточно использованы ‑ это правда.
Но полной правдой является то, что и в Смоленском сражении, и в Московской битве советские войска выстояли и во многом повернули ход истории.
Высокую эффективность советской разведки и контрразведки вынуждены были признать даже наши враги. Начальник оперативного управления генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Г.Блюментрит жаловался: «Нам было очень трудно составить ясное представление об оснащении Красной Армии. Русские принимали тщательные и эффективные меры безопасности. У нас было мало сведений относительно русских танков. О боевой мощи русской армии мы тоже не имели точных данных».
Гитлер неудачи своих войск на советско-германском фронте приписывал во многом превосходству советской разведывательной службы. Он заявлял своим приближенным: «Если мы не знаем, что делать с танковыми дивизиями русских, это потому, что Советы полностью превосходят нас в одной области ‑ разведке». Воздавая должное высокой результативности советской разведки и контрразведки, он выражал глубокое сожаление, что его собственные соответствующие службы работают намного хуже.
Провал фашистской разведки и ее агентуры, успехи наших контрразведчиков были глубоко закономерны и обусловлены силой советского государства, единством и патриотизмом всех народов СССР, справедливыми целями и характером самой Великой Отечественной войны.
Одним из самых ярких моментов, посвященных в рассказе А.К. Спрогиса операции «Родина», было его воспоминание о том, как летчики и охрана специального транспортного самолета, не зная, конечно, о целях и задачах своего полета, но догадываясь, что для многих из них он без возвращения, в последние минуты перед вылетом, сидя у костра на окраине аэродрома, тихо пели песню, ставшую гимном Великой Отечественной ‑ «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой». И слова одного офицера-чекиста, захлопывающего дверь взлетающего самолета: «Не забудьте нас, ребята».
С тех пор прошло более 77 лет, и мы знаем, что песню, запетую на ночном, прифронтовом аэродроме, в августе 1941 года, допели наши солдаты и офицеры в мае 1945 года в Берлине. Минуло немало лет с того страшного и героического времени и пора, давно пора вспомнить подвиг чекистов-контрразведчиков при осуществлении сложнейшей операции в первые, тяжелейшие месяцы войны. Среди них были люди разных национальностей ‑ русские, белорусы, украинцы и латыши, но все они были одной веры ‑ веры в конечную Победу над врагом.
Операция «Родина» сыграла важную, хотя и подчиненную роль, в деле защиты Москвы в 1941 году. Советские люди шли на все, даже на смерть, ради победы над коричневой чумой, набросившейся на нашу землю, защищая свою Родину, народ, свои семьи и свой образ жизни. Возможно. Читателю покажутся ненужными или скучными многочисленные отступления автора от непосредственной темы рассказа о стратегических ситуациях и планах, о результатах боев, но без этого конкретного исторического фона вряд ли можно понять все значение операции «Родина», причины ее развития и предотвратить превращение ее в боевик местного значения.
Чекисты-контрразведчики и военные разведчики, участники операции, с честью выполнили главный свой долг ‑ помогли армии и стране выиграть два с половиной таких долгих из многих месяцев войны, приблизили для нас всех день Победы.
[1] Нарысы гiсторыi Беларусi. Частка 2. – Мн., 1995, с. 177‑178, 181. Гiсторыя Беларускай ССР. Т. 4. –Мн., 1975,с. 37, 39 – 41.
[2] История дипломатии. Т. 4. – М., 1975, с. 113, 133–136.
[3] П. И. Ивашутин «Докладывала точно» ‑ Военно-исторический журнал, № 5, 1990, с. 55‑59; А. И. Колпакиди, Д. П. Прохоров «Империя ГРУ», кн. 1, -М., 2001, с. 249–253, 272, 285‑288; История дипломатии. т. 4. ‑ с. 96.
[4] История дипломатии. Т. 4. – с. 119, 123, 125, 221; Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия. – М., 1985, с. 327.
[5] История дипломатии. Т. 4. – с. 111–113; В. В. Веденеев. Великие тайны 20 века. Тайны Третьего рейха. – М., 2002, с. 337–342.
[6] История дипломатии. Т. 4. – с. 176–178, 184–186, Беседа с М. А. Гареевым, генералом армии и доктором исторических наук ‑ Сверхсекретные расследования, статья «Была ли возможность у СССР избежать войны». ‑ № 40, с. 4. Мн., 2000.
[7] История дипломатии. Т. 4. – с. 178–180.
[8] Маркарян М. О. Журнал «Самиздат» М. 20 апреля 2005, 75 – 98.
[9] А. Вайс. Статья «Как СД морочило голову Сталину». – Сайт; «Аргументы и факты». Дата публикации на сайте 6 августа 2006, с. 1‑3.
[10] История дипломатии. Т. 4. – с. 111; А. И. Колпакиди, Д. П. Прохоров. – Указ. Соч. Т. 1., с. 285, М. О. Маркарян, ‑ Указ. Соч. с. 79, 80, 81, 83, 84.
[11] А. Уткин. Письмо Сталину. О чем писал Гитлер советскому вождю накануне вторжения. – «Российская газета» № 4658, 20 июня 2008. ‑ «И».
[12] Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в трех томах. – Т. 1. – Мн., 1983, с. 34‑36; Журнал «Молодая гвардия». – М.,1989, № 6, с. 85.
[13] Журнал «Молодая гвардия». М. ‑ 1989, № 6, с. 85; Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны. – Мн., 2009, с. 35; История дипломатии. Т. 4, с. 113.
[14] Всенародная борьба в Белоруссии … т. 1, с. 34; Б. Шапталов. Испытание войной. –М., 2002, с. 65‑74, Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) – с. 35‑36, 41; Сверхсекретные расследования. Указ. соч., с. 4.
[15] Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия. – М.,1985, с. 34, 705; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны.) – с. 41‑42; «Аргументы и факты». – М., 1987, № 25, с. 8, статья «Начало войны: суровые уроки истории»; Газета «Правда» от 6 октября 1989, с. 4.
[16] Б. Шапталов. Указ. соч., с. 76, 126, 1941 год: Трагическое и героическое. Тезисы межреспубликанской научной конференции 19–21 июня 1991г. – Мн., 1991, с. 220‑221; Газета. «Правда» 6 октября 1989 г.; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2, с. 267. Народная вайна (чем мы вступили в 1941 год).
[17] Трагическое и героическое, с. 119‑120; Э. Иоффе. Лаврентий Цанава: Его называли белорусский Берия. – Мн., 2016, с. 157‑158.
[18] Э. Иоффе. Указ. соч., с. 153‑154, 157‑158.
[19] А. Уткин Указ. соч. с. 64; В. В. Карпов. Генералиссимус. – Мн., 2002, т. 1, с. 139.
[20] Э. Иоффе. Указ. соч., с. 151, 157.
[21] Б. Шапталов. Указ. соч., с. 87‑88.
[22] А. И. Колпакиди, Д. П. Прохоров. Указ. соч., т. 1, с. 267, 269‑271, 272.
[23] Э. Иоффе. Указ. соч., с. 156.
[24] История Второй мировой войны 1939–1945, в 12 томах. М., 1973-1980, т. 4, с. 21‑22.
[25] Нарысы гiсорыi Беларусi, т. 8, с. 266; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), с. 54 .
[26] «Аргументы и Факты». М., 1989 № 24, с. 3.
[27] Газета «Правда», 6 октября 1989 г., статья «Народная война. С чем мы вступили в 41-й», с. 4 «Аргументы и факты». М., 1987, № 25, с. 8.
[28] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 40; П. А. Судоплатов. «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930 – 1950 гг.» М. 2001, с. 181‑182; «Аргументы и факты». Статья «Начало войны: суровые уроки истории», 1987, № 25, с. 8; Газета «Правда» 6 октября 1989, с. 4.
[29] Б. Шапталов. Указ. соч., с. 43‑44; Э. Иоффе. Указ. соч., с. 162.
[30] Б. Шапталов. Указ. соч. с. 43‑45; С. Н. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. ‑ М., 2005, с15, 256, 259‑324.
[31] История дипломатии. Т. 4 с. 111‑113, 169‑171, 184‑189.
[32] История дипломатии. Т. 4, с. 221‑225.
[33] П. А. Судоплатов. Указ. соч., с. 182.
[34] А. Колпакиди, Д. Прохоров. Указ. соч., с. 249, 269‑270, 276.
[35] М. В. Черепанов. Победа ковалась уже в 1941 году. С. 1, Интернет сайт «Казанский Кремль».
[36] П. А. Судоплатов. Указ. соч., с. 179, 184‑186, 216.
[37] П. А. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год. – М. 2001, с. 211.
[38] П. А. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год., с. 211; Н. А. Зенькович. Тайны ушедшего века. Распри. Подоплека. – М., 2004, с. 120, 122‑123.
[39] Б. Шапталов. Указ. соч., с. 43.
[40] В. С. Новиков. Накануне и в дни войны. – М., 1988, с. 544; Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 15 А, опись 2154, дело 4, л. 192‑282; Б. Шапталов. Указ. Соч. с. 41‑45.
[41] В. Белоконь. Цена Победы. «Аргументы и факты», — М., №33, 1990, с. 5.; С. Н. Славин. Секретное оружие Третьего рейха. – М.,2004, с. 62‑65, 67; В. К. Киселев. Ключи от ада. Главные тайны нацистов 1935‑1950. – Мн. 2015. с. 23‑24; Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. – М., 1985, с. 629.
[42] А. С. Орлов «Чудо-оружие: обманутые надежды фюрера». – М., 1999, с. 15, 18‑26.
[43] В. К. Киселев, Указ. Соч., с. 342‑353; С. Н. Славин, Указ. Соч., с. 204‑207; П. А. Судоплатов. Спецоперации…, с. 276‑277.
[44] П. А. Судоплатов. Спецоперации… с. 193, 219‑220; А. Колпакиди, Д. Прохоров. Указ. Соч., с. 346; Интернет. Сайт «Вилли Леман».
[45] А. Колпакиди, Д. Прохоров. Указ. Соч., с. 252‑253, 348‑349.
[46] П. А. Судоплатов. Спецоперации…, с. 275; П. А. Судоплатов «Разные дни тайной войны и дипломатии, 1941 год»., с. 307.
[47] С. Н. Славин. Указ. Соч., с. 204‑205; Киселев В. К. Указ. Соч., с. 376‑379; А. С. Орлов. Указ. Соч., с. 272‑273.
[48] А. С. Орлов. Указ. Соч., с. 175; Киселев В. К. Указ. Соч., с. 32‑44, 66‑75; В. Черепанов. Победа ковалась уже в 1941 году. Интернет сайт «Казанский Кремль», с. 1‑4.
[49] Журнал «Новая и новейшая история», ‑ М.,1992, №6, с. 5‑8; Военно-исторический журнал, 1965, № 9, с. 84; С. П. Иванов «Начальный период войны». – М.,1974, с50.
[50] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 34; Беларусь 1941‑1945. Подвиги, трагедия, память. – Мн., 2010, кн. 1, с. 7.
[51] Военно-исторический журнал, 1989, № 4, с. 54; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 23‑25; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), с. 47‑48.
[52] Ю. И. Мухин «В начале Великой отечественной»; т. н. письма Гитлера к Сталину. «Интерфакс», 30 января 2009.
[53] А. Б. Мартиросян. Сталин против пятой колонны 1937 – 1938. Мн.,2017, с. 272‑273.
[54] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi. Матэрыалы Мiжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі…– Белоусов В. И. Мiнск, 2003, частка 2, стар. 11, 12.
[55] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), с. 44; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 57, 70,119; Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия. – М, 1985.
[56] Интернет ‑ Белоусов В. И. Горсть песка. 2012; Центральный Архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМО РФ) фонд 127, опись 12915, д. 85, л. 31; Интернет. Р. Вольф. Война на западном направлении. 2011, кн. 2.
[57] Великая Отечественная война 1941‑1945. Энциклопедия, с. 34, 629‑630; Б. Шапталов. Испытание войной, с. 71, 121‑122; В. И. Белоконь. Указ. Соч., с. 5.
[58] Интернет. Р. Вольф. Война на западном направлении. Июнь 1941 года, кн. 2, 2011; В. И. Белоусов. Горсть песка. 2012.
[59] Газета «Труд», 6 июня 1991. Статья В. Бадуркина. Простите нас, генерал; Интернет. А.И. Ходов. Игра на выживание. 2010.; П. А. Судоплатов. Спецоперации…, с. 185; А. Б. Мартиросян. Сталин против пятой колонны, стр. 308–313.
[60] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 37; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), с. 42‑43.
[61] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 19‑20, 23; А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами. – Мн., 1994. С. 7‑8; Э. Иоффе. Указ. Соч., с. 159; А. Колпакиди, Д. Прохоров. Указ. Соч., с. 290‑291.
[62] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя. – Мн., 1990 год, с. 20; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 68; Великая Отечественная война советского народа? с. 44‑45; Нарысы гiсторыi Беларусi, с. 266.
[63] Н. А. Зенькевич. Тайны ушедшего века. Власть. Распри. Подоплека. – М, 2004, с. 122‑125; Ю. И. Мухин. В начале Великой Отечественной войны в контексте т. н. письма Гитлера ‑ Сталину, — интернет, «Интерфакс», пятница, 30 января 2009 г., с. 63; Б. Шапталов. Указ соч. с. 77‑78, 89.
[64] Б. Шапталов. Указ, соч., с. 78‑80, 89; Н. А. Зенькевич. Указ. Соч., с. 120,127.
[65] Они были первыми ‑ Газета «Советская Беларусь», 24 июня 2017 г. с. 11; Всенародная борьба в Белоруссии… т. 1, с. 47; П. А. Судоплатов. «Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год», с. 211; Интернет ‑ В. И. Белоусов. Горсть песка ‑ 9% текста; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 11.: Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. – М. 1970, с 248.
[66] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) c 45, 57‑58; Всенародная борьба в Белоруссии…. Т. 1, с. 38‑39; «Аргументы и факты», 1985, № 19, с. 3.; Н. Пуртова. Кто открыл границу немцам?. – Еженедельная газета «Секретные расследования», Мн., 2017, № 11 с. 4; Б. Шапталов. Испытание войной, с. 68, 70 – 71, 84, 99.
[67] Н. Черкашин «Из дотов не выходить!» ‑ газета «Правда», 23 апреля 1975, с. 3.; Всенародная борьба в Белоруссии…, Т. 1, с. 44; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 42.; Гiсторыя Беларускай ССР. Т. 4. ‑ Мн, 1975, с. 125‑126.
[68] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 72; История Белорусской ССР, с. 371; Всенародная борьба в Белоруссии, т. 1, с. 40‑42; Трагiчнае лета 1941: Напамiны гiсторыi, с. 87; В. И. Белоусов Горсть песка. Интернет, 15% текста.
[69] Н. К. Андрющенко. Народное ополчение Белоруссии. ‑ Мн., 1980, с. 51‑54; 1941 год: Трагическое и героическое., с. 91; Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 123; Трагiчнае лета 1941: напамiн гiсторыi, с. 30‑31.
[70] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 55; Б. Шапталов, Указ, соч. с. 90, 122; Нарысы гiсторыi Беларусi, частка другая, с. 267; Аргументы и Факты, 1989, № 23, с. 4.
[71] Газета «Во славу Родины» 26 июня 1991. с. 3; Великая Отечественная советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 72; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941‑1945. Энцыклапедыя., с. 347.
[72] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны) с. 54 – 55; Нарысы гiсторыi Беларусi, частка 2-я, с. 267; Всенародная борьба в Белоруссии… Т. 1, с. 38; Б. Шапталов. Указ. Соч. с. 72, 121‑122.
[73] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1. ‑ Мн., 2010, с. 11.
[74] Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 68, 72‑73; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 54.
[75] Беларусь 1941–1945 Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1, с. 31‑32; Газета «Правда», статья «Народная война», 6 октября 1989, с. 4.
[76] Э. Иоффе. Диверсанты. Газета «Во славу Родины», 1991, 21 июня, с. 4; П. А. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год., с. 200; Э. Иоффе. Лаврентий Цанава… с. 165‑166; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 89‑90; Беларусь 1941 – 1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1, с. 12.
[77] Э. Иоффе. Лаврентий Цанава., с. 100‑101.
[78] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 20‑21.; Б. Шапталов. Указ. соч., с. 90‑93.; Белоусов В. И. Горсть песка–12, Интернет, 30% текста; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 45,69.
[79] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 21‑22; Всенародная борьба в Белоруссии… т. 1., с. 43‑44; Б. Шапталов. Указ. соч. с. 90‑93,137; 1941 год: Трагическое и героическое… с. 34‑37; История Белорусской ССР, с. 371‑372; Нарысы гiсторыi Беларусi,ч. 2, с. 268‑270; Белоусов В. И. Горсть песка‑12, Интернет, 34%, 42% текста; Трагiчнае лета 1941 года: Напамiны гiсторыi, с. 32.
[80] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941–1945. Энцыклапедыя, с. 20‑21; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 7,18; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 45; Нарысы гiсторыi Беларусi. ч. 2-я, с. 270.
[81] В. Бадуркин. Простите нас, генерал. – Газета «Труд» 6 июля 1991; Великая Отечественная война 1941‑1945. Энциклопедия, с. 444; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 14, 18.
[82] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 9‑10, 14, 18‑19.
[83] Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 270; Всенародная борьба в Белоруссии, т. 1, с. 45; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 23‑24.
[84] Нарысы гiсторыi Белауси, ч. 2-я, с. 270; Всенародная борьба в Белоруссии, т. 1, с. 44‑46; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 24‑25; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945, Энцыклапедыя, с. 346‑347, 545.
[85] Нарысы гiсторыi Беларусі, ч. 2-я, с. 270‑271; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 26‑28; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945, Энцыклапедыя, с. 8,21,347; Всенародная борьба в Белоруссии… Т. 1, с. 48; Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 159.
[86] В. И. Белоусов. Горсть песка – 12. Интернет, 55% текста; ЦА МО РФ, ф. 206, оп. 2134, д. 1, л. 188; Д. 229, оп. 166, д. 90, л. 129; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 25‑27.
[87] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. Кн. 1-я, с. 28; Великая Отечественная война 1941‑1945. Энциклопедия, с. 157; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 99.
[88] Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 146‑147; В. Бадуркин. Простите нас, генерал. – Газета «Труд» 6 июля 1991.
[89] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 21, 347; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 113; В. И. Белоусов. Горсть песка – 12, Интернет, 67% текста; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, кн. 1-я, с. 30; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 60‑62.
[90] Н. Я. Данилов. К вопросу об обороне Бобруйска в 1941 году ‑ статья в сборнике тезисов «1941 год: трагическое и героическое» межреспубликанской научной конференции 19‑21 мая 1991 г. –Мн., 1991 – с. 38‑41.
[91] Беларусь 1941–1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 31, 34‑35; Гісторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 144‑146; История Белорусской ССР, с. 376‑377; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 94‑95; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 271; Н. К. Андрющенко. Народное ополчение Белоруссии. Мн., 1980, с. 61.
[92] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 53, 74, 82; Беларусь 1941 ‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 34‑35; Б. Шапталов. Указ. Соч. с. 97; Великая Отечественная война 1941‑1945. Энциклопедия, с. 77‑78.
[93] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память., с. 31; Б. Шапталов. Указ. Соч., с. 95‑96.
[94] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память., с. 35‑36; Б. Шапталов. Указ., соч., с. 96‑97; История Белорусской ССР, с. 377.
[95] Б. Шапталов. Указ., соч., с. 97‑98; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 500; Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 147; А. П. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941г. М, 2001, с. 220.
[96] Всенародная борьба в Белоруссии. Т. 1, с. 65; В. Карпов. Генералиссимус, т. 1. – М. 2003, с. 374; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память. С. 36; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 70.
[97] Великая Отечественная война 1941‑1945. Энциклопедия, с. 68, 659; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с 105, 389; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия, Память, с. 39‑40; Б. Шапталов. Указ. соч., с. 98‑99; Всенародная борьба в Белоруссии…. Т. 1, с. 66.
[98] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 66‑68; Гiсторыя Беларускай ССР, с. 149‑151; История Белорусской ССР, с. 377‑378; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 273; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 315‑316; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память., с. 40‑45.
[99] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 69‑70; История Белорусской ССР, с. 378; Гiсторыя Беларускай ССР, с. 152‑154; Нарысы гiсторыі Беларусi, ч. 2-я, с. 274; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 46, 48, 50; Б. Шапталов. Указ. соч., с. 144‑145.
[100] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 51; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 275.
[101] Р. К. Павлович. Участие Пинской речной военной флотилии в оборонных боях на территории Беларуси летом 1941 г. ‑ Трагiчнае лета 1941: напамiн гiсторыi, с. 115‑125; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 496.
[102] Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 152‑154, 157, 159; Б. Шапталов. Указ. соч., с. 143‑145; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 46‑54; История Белорусской ССР, с. 378‑379; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 69‑72; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 274‑275.
[103] Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 154‑155, 160; Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память., с. 55,57.
[104] Всенародная борьба в Белоруссии…Т. 1, с. 56; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 222; Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 141.
[105] Н. К. Андрющенко. Народное ополчение Белоруссии. Мн.,1980., с. 50‑51, 54‑55.
[106] Беларусь 1941–1945. Подвиг. Трагедия. Память, с. 13‑14; Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 55‑56; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 92.
[107] Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 14, 58‑60, 62‑63.
[108] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 54‑55; Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 14‑15.
[109] Киселев В. К. О разведке и разведчиках. Мн.,2014, с. 15‑18; Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 34‑35, 37‑40.
[110] Киселев В. К. О разведке и разведчиках, с. 19‑21; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 222.
[111] Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 12, 16; Всенародная борьба в Белоруссии… с. 57.
[112] Н. К. Андрющенко. Указ. соч. с. 37‑38.
[113] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 378; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 92; Гісторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 141.
[114] История Белорусской ССР, с. 377; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя., с. 127; Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия, с. 479; Н. К. Андрющенко. Указ., соч., с. 67; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 142.
[115] Солдатами были все. Мн., 1972, с. 79; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945., с. 316–317; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 92; Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 20, 23, 25, 68‑69, 71, 75.
[116] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя., с. 174‑175; 1941 год: Трагическое и героическое., с. 93; Н. К. Андрющенко, с. 21, 23, 25, 102‑103, 105‑107.
[117] Н. К. Андрющенко., Указ., соч., с. 18, 30, 91‑94, 97‑99; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 58.
[118] Н. К. Андрющенко, Указ. Соч., с. 35, 36, 42, 44‑45.
[119] Н. К. Андрющенко, Указ. соч., с. 26‑29; Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия, с. 479.
[120] Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 112‑114; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941‑1945. Мн., 1983, с. 662.
[121] Беларусь 1941 – 1945. Подвиг. Трагедия. Память, кн. 1-я, с. 14‑15; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 59.
[122] Беларусь 1941 – 1945. Подвиг. Трагедия. Память, кн. 1-я, с. 14 ‑16, 19 – 22; Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 133.
[123] Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 133‑134; Беларусь 1941 – 1945. Подвиг. Трагедия. Память., с. 13; Н. К. Анищенко. Народное ополчение, с. 10; Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 59.
[124] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 114.
[125] Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 63‑64.
[126] Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 62‑63; А. А. Кузняев. Подпольные партийные органы компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. – Мн., 1975, с. 243; Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 135.
[127] Гiсторыя Беларускай ССР, т. 4, с. 135; Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 53.
[128] Беларусь 1941‑1945. Подвиг. Трагедия. Память, кн. 1-я, с. 20‑21; Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 53.
[129] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 314; Эканамiчная гiсторыя Беларусi, ‑ Мн., 1996, с. 304–305; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 137; Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1. с. 58‑59.
[130] Эканамiчная гiсторыя Беларусi, с. 307; Газета «Минский курьер «3-го мая 2005 г., с. 5.; Гiсторыя Беларусi», т. 4, с. 136‑137; Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 54.
[131] История Белоруссии, с. 375, 386; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 137; Эканамiчная гiсторыя Беларусi, с. 305, 307‑308.
[132] Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 137‑138; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 647; Всенародная борьба в Белоруссии, т. 1, с. 60‑61.
[133] Эканамiчная гiсторыя Беларусi, с. 307; История Белоруссии, с. 376; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 647; Трагiчнае лета 1941: напамiн гiсторыi, с. 141‑142.
[134] Н. К. Андрющенко. Указ. соч., с. 48‑49; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 139,147; Эканамiчная гiсторыя Беларусi, с. 306 – 307; Всенародная борьба в Белоруссии …, т. 1, с. 61‑62; Трагiчнае лета 1941: напамiн гiсторыi, с. 142.
[135] Трагичнае лета 1941: напамiн гісторыi, с. 143; Н. К. Андрющенко. Указ.,соч. с. 47‑48; Всенародная борьба в Белоруссии …,с. 54; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 1408; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 647.
[136] Гiсторыя БССР, т. 4, с. 139; Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Энцыклапедыя, с. 647; История Белоруссии, с. 386‑387.
[137] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 112‑113; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 135‑136; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945, Энцыклапедыя, с. 339‑340.
[138] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 148‑151, 174‑175; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 161‑162; История Белорусской ССР, с. 379.
[139] В. Ф. Романовский. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. «Немецко-фашистская оккупационная политика и ее крах в Белоруссии (1941–1944 гг.)» ‑ Мн., 1974, с. 26‑27, 29‑32; Эканамиiчная гiсторыя Беларусi, с. 319; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941–1945. Энцыклапедыя, с. 31‑32; 1941 год: трагическое и героическое, с. 131.
[140] В. Ф. Романовский. Указ., соч., с. 16; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941–1945. Энцыклапедыя., с. 390; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 168.
[141] В. Ф. Романовский. Указ. соч., с. 18; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне. Энцыклапедыя, с. 30; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 178; Нарысы Гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 280.
[142] 1941 год: Трагическое и героическое., с. 132; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 183.
[143] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 169, 176‑177, 187‑188; Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 36; Национальный архив Республики Беларусь, фонд 4683, опись 3, д. 943; Киселев В. К. Особый фронт партизан Белоруссии (июнь 1941 – июль 1944), — Мн., 2011, с. 46; А. Ф. Хацкевич, Р. Р. Крючок. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР. – Мн., 1980, с. 72.
[144] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 85‑86, 169; Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 179.
[145] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя., с. 29,31, 253‑255; В. Ф. Романовский. Указ. соч., с. 22‑23; Трагiчнае лета 1941: напамiн гiсторыi, с. 93.
[146] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 93‑94; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 179.
[147] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 92‑93; Всенародная борьба в Белоруссии, т. 1, с. 179‑180.
[148] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 37,94; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945, Энцыклапедыя, с. 125; В. Ф. Романовский. Указ., соч., с. 20‑21; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), с. 99.
[149] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 170; История Белорусской ССР, с. 383; Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 7‑8, 36; А. А. Факторович. Крах аграрной политики немецко – фашистских оккупантов в Белоруссии. – Мн., 1979, с. 60‑61.
[150] Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 253; Эканамiчная гiсторыя, с. 313‑316; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 184, 186‑187, 189‑191; Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 102.
[151] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 6‑9, 37; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 132, 197-217; История Беларуси. Вопросы и ответы. – Мн., 1993, с. 171; Всенародная борьба в Белоруссии, т. 1, с. 173‑174, 181; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2, с. 268; Национальный архив РБ, ф. 4683, оп. 3, д. 943 лл. 115, 122‑123.
[152] Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 49‑50.
[153] Гiсторыя Беларусi, т. 4, с. 180‑183; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 162; История Белорусской ССР, с. 183; Киселев В. К. Особый фронт партизан Белоруссии (июнь 1941 – июль 1944), с. 27, 31.
[154] Киселев В. К. Особый фронт партизан Беларуси, с. 24; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941–1944, Мн., 1983, с. 118‑119, 126, 133, 156; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 117; Трагiчнае лета 1941: Напамiн гiсторыi, с. 77.
[155] История Белорусской ССР, с. 380 – 381; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 169; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 116‑117; Партизанские формирования Белоруссии…, с. 22, 96, 107, 130,212, 599; Трагiчнае лета 1941: Напамiн гсторыi, с. 78.
[156] Нарысы гисторыі Беларусі, ч. 2-я, с. 284‑285; Н. А. Якубовский. В тыл врага. – Мн., 1979, с. 19; Партизанские формирования Белоруссии…, с. 20, 404, 626.
[157] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 75‑76, 84‑85, 100‑103; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941 – 1945. Энцыклапедыя, с. 241,243.
[158] История Белоруссии, с. 379; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 227‑228; Н. А. Якубовский. В тыл врага, с. 47‑48; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 114‑115; Киселев В. К. Особый фронт партизан Белоруссии, с. 76; А. Н. Бадулин. Возникновение партизанского движения в Гомельской области и преодоление трудностей его развития в первые месяцы Великой Отечественной войны. – Мн.,1991, с. 165.
[159] 1941: трагическое и героическое, с. 127,168; Киселев В. К. Особый фронт партизан Белоруссии., с. 77; НА РБ (Национальный архив Республики Беларусь), ф.4,оп 33а, д. 4, л. 26, оп. 3, д. 1209, л. 163; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 284; Бадулин А. Н. Указ. соч., с.161, 162, 164.
[160] Российский государственный архив социально – политической истории (РГА СПИ), ф. 17, оп. 8, д. 480, лл. 36‑42, 45‑52, 113‑114; НА РБ ф. 4, оп. 33а, д. 61, лл. 1‑7, д. 646, лл. 146‑152; ф. 4126, оп. 1, д. 2, лл. 21‑33.
[161] НА РБ, ф. 4, оп. 33а, д. 61, лл. 1‑9; д. 308, лл. 1‑20; д. 638 лл. 1‑52; д. 646, лл. 146‑153; ф. 4126. оп. 1, д. 2, лл. 14‑33; РГА СПИ, д. 17, оп. 8, д. 480, лл. 38‑42, 45‑48, 113‑116; Партизанские формирования в Белоруссии…, с. 20.
[162] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 118‑120, 133-134 Киселев В. К. О разведке и разведчиках (июнь 1941 – июль 1944 гг.). – Мн. 2014, с. 9,11.
[163] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 107‑108; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 228; Н. А. Якубовский. В тыл врага., с. 51, 53, 55; НА РБ, фонд трехтомника «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков», раздел «Воспоминания участников: Воспоминания Пономаренко П. К., с. 21; Старинова И. Г., с. 3 0‑31, 34‑35, 38; АМО РФ (Архив Министерства Обороны Российской Федерации), ф. 208, оп. 2526, д. 33, д. 279; РГА СПИ, ф. 17, оп. 8, д. 480, л2; д. 481, с. 5; НА РБ, ф. 4, оп. 33а, д. 4, л. 26; д. 524, л. 26; д. 61, л. 7, д. 65, лл. 55, 89; д. 646, л. 152; д. 524, л. 26; ф. 4, оп. 3, д. 1209. л. 231.
[164] А. С. Хацкевич, Р. Р. Крючок. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР, с. 108‑109, 121; Н. А. Якубовский. В тыл врага, с. 31, 52, 60; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с.108; Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 284; А. Колпакиди, Д. Прохоров. Империя ГРУ, кн. 1-я, с. 294, 299.
[165] РГА СПИ ф. 17, оп. 8, д. 480, л. 160, 168; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941–1944, с. 92; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 117; АМО РФ, ф. 208, оп. 2526, д. 33, лл. 297–309.
[166] РГА СПИ, ф. 17, оп. 8, д. 481, л. 1; НА РБ, ф. 4, оп. 3, д. 1209, л. 56; оп. 33а, д. 17, л. 48; д. 524, л. 22; д. 15, л. 54; ф. 4126, оп. 1. д. 2, л. 14; Н. Пахомов, Н. Дорофеенко. Витебское подполье. – Мн.,1969, с. 10.
[167] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 144‑145, 148‑149; Гiсторыя Беларускай ССР, т.4, с. 167‑168, 171; 1941 год: Трагическое и героическое., с. 168; А. Ф. Хацкевич, Р. Р. Крючек. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР, с. 55‑56.
[168] . Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 146,147; П.А. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии, с. 290-291.
[169] НА РБ, ф.4, оп 33а, д.4, л. 26; оп. 3, д. 1209, л. 163; оп. 33, д.41, л.15; д.6, л.4; д.44, лл.4-5; д. 62, л. 117; д. 63, лл. 104-105; д. 44, лл. 4-5; д. 62, л. 117; д. 63, лл. 104-105; д. 17, л. 48; д. 524, л. 22; д. 14, лл. 87-91; д. 61, лл. 1-7; д. 65, л. 55; д. 524, лл. 22, 125; д. 646, лл. 146-152; ф. 3500, оп. 4, д. 60, лл. 1, 675-685; РГА СПН, ф.17, оп. 8, д. 481, лл. 1-2; д. 480, л. 168; АМО РФ, ф. 208, оп. 2526, д.64, л. 2; д. 65, л. 3; д. 33, лл. 297-309.
[170] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 366; Партизанские формирования в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941-1944, с. 383, 429; Трагчнае лета 1941: Напамін гісторыі; с. 84-85; Киселев В.К. о разведке и разведчиках, с.205; НА РБ, ф. 4, оп. 33-а, д. 64, л. 2; д. 65, л.3.
[171] Э.Г. Иоффе, Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 170; П.А. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год, с. 276-277; П.А. Судоплатов. Спецоперации. Лубянка и Кремль в 30-50 года, с. 197-199.
[172] Э.Г. Иоффе, Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 166-167; Соловьёв А.К.. они действовали под разными псевдонимами. – Мн., 1994, с. 28-29, 35; НА РБ, ф. 4683, оп. 3, д. 943, лл. 1, 10, 38, 53-54, 85, 91, 126, 127, 130; д. 962, лл. 4-5; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 89, 172-173.
[173] 1941 год: Трагическое и героическое., с. 119-120, 173; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 90, 91, 102; А.Ф. Хацкевич, Р.Р. Крючок. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР., с. 92; Трагічнае лета 1941: напамін гісторыі., с.38; Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945. Энцыклапедыя, с. 94.
[174] 1941 год: Трагическое и героическое., с. 174; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 102-103, 130-131; А.Ф. Хацкевич, Р.Р. Крючек. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР., с. 84.
[175] Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 87-121; Беларусь ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945. Энціклапедыя, с. 353-354, 357-359.
[176] Нарысы гісторыі Беларусі, ч. 2-я, с. 296; Беларусь ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945. Энцыклапедыя, с. 41-42, 83-84, 125, 127-129, 317-318, 322-323; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 80-81.
[177] А.Ф. Хацкевич, Р.Р. Крючок. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР, с. 84-85; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 155-156, 165; Великая Отечественная война Советского народа с (в контексте Второй Мировой войны), с. 117; 1941 год: Трагическое и героическое, с. 175.
[178] Нарысы гiсторыi Беларусi, ч. 2-я, с. 296; Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1945. Энцыклапедыя, с. 41‑42, 83‑84, 125, 127‑129, 317‑318, 322‑323; Всенародная борьба в Белоруссии…,т. 1, с. 80‑81.
[179] А. Ф. Хацкевич, Р. Р. Крючок. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР, с. 84‑85; Всенародная борьба в Белоруссии…, т. 1, с. 155‑156, 165;
[180] Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны), с. 117; 1941 год: Трагическое и героическое., с. 175.
[181] История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941‑1945. М., 1965, т. 6. с. 134, 136; Э. Г. Иоффе. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 131, 133‑134; Э. Г. Иоффе. Диверсанты. Так начиналась война. – Газета «Во Славу Родины» 21 июня 1991 года, с. 4.
[182] А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами, с. 6‑7,9,11,39.
[183] П. А. Судоплатов. Разные дни тайной войны и дипломатии., с. 211,213; Иоффе Э. Г. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 162; Б. Шапталов. Испытание войной., с. 87‑88.
[184] А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами, с. 40‑41; Э. Г. Иоффе. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 169‑171; И. А. Волаханович., Деятельность НКГБ по созданию оперативных групп и партизанских отрядов в июне-августе 1941года. Беларусь, 22 июня 1941 года: Говорят архивы…, Мн., 2001, с. 78, 79.
[185] С. М. Симонов. Статья «Трудное начало» в сборнике 1941 год: Трагическое и героическое. Мн., 1991, с. 151‑155.
[186] Э. Г. Иоффе. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 172-174; С. М. Симонов «Трудное начало», с. 54; А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами, с. 41-43; Киселев В. К. О разведке и разведчиках, с. 24‑26.
[187] Э. Г. Иоффе. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 171; С. М. Симонов «Трудное начало», с. 153-155; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941‑1944, с. 510, 667; Киселев В. К. О разведке и разведчиках, с. 25-26, 31-32.
[188] А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами., с. 61‑62, 145, 194, 198; В. К. Киселев. О разведке и разведчиках, с. 204‑205.
[189] С. М. Симонов. «Трудное начало», с. 152.
[190] 1941 год: Трагическое и героическое, с. 88; А. Н. Бадулин. Возникновение партизанского движения в Гомельской области и преодоление трудностей его развития в первые месяцы Великой Отечественной войны (июль-декабрь 1941 г.), с. 161; Киселев В. К. О разведке и разведчиках, с. 23‑24, 38, 163; П. А. Киеня, В. А. Жур. Бессмертные имена, Мн., 1979, с. 108, 123.
[191] Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне 1941‑1944. Энцыклапедыя., с. 366; А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами, с. 7,13.
[192] А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами, с. 7; С. М. Симонов. «Трудное начало», с154; Киселев В. К. О разведке и разведчиках, с. 51‑52; Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941‑1944, с. 626‑627; Э. Г. Иоффе. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 169.
[193] А. К. Соловьев. Они действовали под разными псевдонимами, с. 44; Э.Г. Иоффе. Лаврентий Цанава. Его называли «Белорусский Берия», с. 173-174, 193.
[194] Глава написана на основе раздела в книге В.К. Киселева «Об этом молчали сводки» Мн. 2003, Стр. 5-55.
[195] Есть информация, что первоначально, в оперативном деле, она называлась, для конспирации, «Лисий хвост».