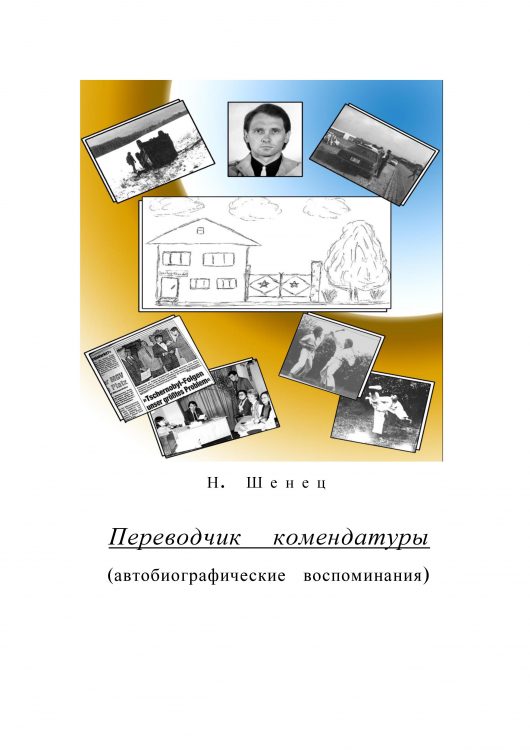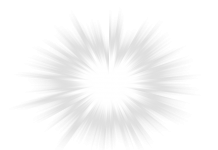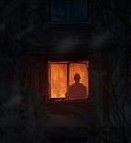П р е д и с л о в и е
События в моей автобиографической книге переносят читателя в начало 80-х годов, когда на территории Германской Демократической Республики находились войска Советской Армии, и я поехал туда на работу в должности переводчика.
Книга состоит из нескольких отдельных рассказов, повествующих о взаимоотношениях немецких граждан и советских военнослужащих, а также о любопытных фактах, которые связаны с нахождением представителей других государств в ГДР.
Читатель познакомится с занимательными, весёлыми эпизодами из жизни сотрудников одной из советских военных комендатур в ГСВГ (Группе советских войск в Германии), где я проработал три года, будучи непосредственным участником описанных историй.
О г л а в л е н и е
- «Пересылка» и жизненные параллели
- Комендатура и её задачи
- Первый выезд
4.Знакомство с представителями немецкой полиции
- Встреча с английской военной миссией
- Ночные гости бургомистра
- «Сила духа» русского офицера
- Новый комендант и его «слабости»:
а) прибытие
б) ремонт комендатуры и бани,
в) рыбалка,
г) охота
- «Белые мыши»
- «Бедный «Трабант»
- Ночной диверсант
- Мёккерн
- Услуга для рейнджера
- Опасная встреча
- Американский атташе в ловушке
- Откровения немецких граждан.
- Послесловие
- «Пересылка» и жизненные параллели.
Последние дни августа 1981 года. Очередная группа служащих Советской Армии (так называли всех гражданских лиц, которые работали в военных гарнизонах по контракту), прибыла в немецкий пограничный город Франкфурт на Одере. Я также был в этой группе. Автобусами нас привезли на территорию одной из воинских частей и разместили в типичной старой немецкой военной казарме. Да, все кругом было необычно и непривычно.
Вдруг, здесь, в немецком городе, в свои 25 лет я начал испытывать необъяснимые чувства оттого, что хожу по тем помещениям и тем булыжным дорожкам, по которым когда-то ходили солдаты враждебной нам армии фашистского вермахта. В моей семье очень хорошо помнят тяжелые годы Великой Отечественной войны, горечь утрат и моменты, когда жизнь висела на волоске. Мои родители и старшие родственники рассказывали много своих жизненных эпизодов, связанных с их личным двойственным отношением к войне и немцам. Приехав сюда, я начал осознавать, что эта земля, эти старые здания казарм — часть той истории, которую они пережили. Почему двойственным?
Вот несколько примеров. Моего деда, по маминой линии, немцы сожгли в своём доме во время начала блокады в Ленинградской области. Семье из малолетних детей, где мама была старшая, ей было 11-лет, и троим братьям от 2 до 7 лет, пришлось жить в землянке. Однако, среди немцев из хозяйственного взвода оказались очень добрые люди, которые по ночам, в тайне от командиров, приносили детям в землянку еду и питьё.
Другой пример. Во время фашистской оккупации Минска мой отец, которому было 11 лет, попал в облаву и его, подростка, в КПЗ фашист ударил резиновым кнутом так, что по сей день, на спине, остался глубокий шрам.
Но вот еще одна история. Самая старшая папина сестра была в партизанах. Об этом узнали немцы и, однажды, всю семью, (кто-то был чуть моложе отца, а кто-то из сестер и старше) поставили к стене возле своего дома для расстрела. Но один из офицеров уговорил другого не расстреливать детей, так как сказал, что наша фамилия имеет немецкое происхождение( может оно и действительно так) и, таким образом, спас их. Позже, старшая сестра моего отца рассказывала, что наш прадед был родом из Пруссии, занимался изготовлением музыкальных инструментов. Вот откуда немецкое происхождение фамилии. Оказывается, что первая часть фамилии звучит как “schen”, что очень схоже, а возможно произошла фонетическая трансформация слова “schoen”- красивый, а вторая половина звучит — “Netz”, что в переводе означает «сеть, невод», вот и получается, что наша фамилия имеет примерный перевод «красивая сеть» или «красивый невод». (Может поэтому мне было не очень трудно изучать немецкий язык еще со школьной скамьи, да и к тому же проявилась склонность к игре на разных музыкальных инструментах?!) По поводу моей фамилии немцы сами задавали много вопросов, мол, имею ли я немецкое происхождение. Кстати, о составных фамилиях немецкого происхождения, я расскажу чуть позже, так как они в немецком языке – обычное явление.
Еще пример. Как — то во двор пришли немцы и заставили папу ловить петуха. Он бегал, но поймать не мог, споткнулся и упал. Вдруг — выстрел! Пуля вонзилась в землю прямо перед головой. От страха отец остался лежать на земле, а немцы рассмеялись и ушли. И последний пример. Папина мама сильно заболела. Ей нужны были лекарства. И в этой ситуации на помощь, рискуя собственной жизнью, опять же ночью, стал приходить немецкий врач и вылечил её. Вот оно двойственное отношение к войне и немцам!
Следует сказать, что эти истории помогли мне, во время непосредственной работы с немецким населением, сформировать свою позицию. Но, это будет потом.
А пока, к моменту прибытия, в нашей, и в соседних казармах, находилось уже более 200 человек разных профессий и специальностей из всех уголков Советского Союза. Здесь были учителя и работники общественного питания, специалисты ЖКХ и медики, водители автомобилей и, конечно же, переводчики. Это место окрестили «пересылка», так как «купцы» из всех гарнизонов ГСВГ (Группы советских войск в Германии) приезжали сюда и набирали необходимый контингент. Продолжительность работы каждого служащего в Германии составляла 3 года.
Мы заполнили анкеты и отдали их в отдел кадров. Здесь, на пересыльном пункте, как правило, больше 2 — 3 дней никто не задерживался, но каждый жил волнительным и длительным ожиданием — кому повезёт работать в большом городе, а кому в «зарослях» удаленного гарнизона. Каждое утро, после завтрака, мы собирались возле главного корпуса, где над центральным входом висел громкоговоритель — «колокольчик», из которого командным голосом назывались фамилии «выбранных». Я сидел в тени большого куста сирени и с волнением ждал «своего часа». Меня постоянно терзал вопрос — найду ли я общий язык с немецкими жителями, не помешает ли, а может и поможет семейная история, о которой я писал вначале, поймут ли они мой немецкий язык и пойму ли их я, ведь настоящей языковой практики с «носителями языка» (в данном случае с немцами ) у меня, как и у многих других выпускников «инязов», не было. Причиной тому был «железный занавес».
В то время каждый, кто выезжал за границу считал себя самым счастливым человеком на свете. Ведь для того, чтобы выехать простому советскому человеку за границу, надо было получить безупречную характеристику с места работы или учебы, пройти по всем ступеням согласований комсомольских организаций и райкомов, собрать кучу медицинских справок и заключений и, наконец, пройти собеседование в райкомах партии, которые являлись последним «определителем пригодности моральных достоинств отъезжающего». Только от них зависела судьба потенциального туриста и перспектива возможности его дальнейших поездок за границу. Вот как было!
К тому же я очень часто вспоминал своих учителей немецкого языка в школе и в институте. Думаю, что мне все-таки повезло с такими по-хорошему принципиальными и справедливыми преподавателями, которых я не забуду всю жизнь. Юлия Михайловна Шаповалова – учительница немецкого языка в школе. Она была также и классным руководителем. Эта очень приятная, эмоцианальная, веселая женщина старалась в каждом из нас в классе рассмотреть будущего специалиста. Мне она «отрядила» профессию переводчика, поэтому для меня в журнале существовали только две оценки: «пять» или «два». Вот такой был «кнут и пряник».
Но благодаря её настойчивости, требовательности и человеческого отношения я старался учиться. Она дала мне «дюжину» немецких учебных граммпластинок для самоподготовки, которые я слушал дома несколько раз в день. Когда пришла пора подготовки ко вступительным экзаменам в институт, то я поставил себя в очень жёсткие бытовые рамки. Во-первых, с родителями договорились, что они уедут на три недели (в июле) в Одессу к родным сёстрам моего отца в отпуск и оставят меня одного дома. Вот где мне пришлось откровенно проявить полную самостоятельность и ответственность во всём. Для меня не было проблемы приготовить себе еду, постирать бельё и т.д. Однако спасибо и тёте Вале Орловой, жене маминого родного брата, которая также иногда готовила мне обед. Они жили рядом. Я отказался от игры в футбол с ребятами во дворе, хотя футбол занимал в то время в моей жизни очень серьёзное место. Мне очень хотелось поступить в «иняз»! Устные темы я учил на свежем воздухе, прохаживаясь по аллейкам вдоль дорог. В вечернее время я учился иногда далеко за полночь. Это дало свои плоды. Начиная с 9 класса, Юлия Михайловна возила меня на все «школьные олимпиады» по немецкому языку. Районная, областная и итоговая – республиканская олимпиада, которая проводилась в Минском институте иностранных языков, сыграли свою определяющую роль в выборе института. Вступительные экзамены в институте я сдавал уже знакомым мне преподавателям по «олимпиаде». Первым куратором и преподавателем немецкого языка на первом курсе «инязя» был Бартош Петр Антонович. Это был очень строгий, принципиальный, но очень справедливый преподаватель. Он радовался нашим успехам, подбадривал нас, но и за наши «промахи», а иногда и имевшую место традиционную студенческую лень, одаривал своим любимым словцом «Faulpelz» — лентяй. Да, было всё! Ведь студенческая жизнь иногда «кружила» не в меру голову. Но с годами видишь – как были мои наставники правы, когда говорили «Учись, учись, знания – это не груз за плечами». Я очень благодарен им.
Но однозначно, что мой низкий поклон и моя искренняя благодарность во всём, и в первую очередь – за поддержку во время учёбы в институте, адресована моим родителям – Ивану Трофимовичу и Валентине Николаевне.
Однако вернёмся к «пересылке». Вечером, чтобы разогнать тоску неизвестности и «ускорить движение времени к отбою», я брал в руки любимый музыкальный инструмент — гитару, и пел песни. Но чаще всего я пел песню из великолепного фильма «Земля Санникова» – «Есть только миг». Мне казалось, что слова из этой песни очень подходили к моей настоящей ситуации, и эта песня придавала мне силы.
Утром, после завтрака, я опять сидел в тени густых кустов сирени и ждал своего часа. Иногда посматривал в свой диплом, где стояла оценка «отлично» по немецкому языку, и, мысленно, от непроходимого волнения, пробовал составлять какие-то отвлеченные от событий фразы на немецком языке. Но это было, скорее всего, нервное перенапряжение.
А из громкоговорителя, по-прежнему, «вылетали» только названия других профессий и другие фамилии.
Наконец, после обеда, вызывают меня. Я бегу в отдел кадров. В коридоре стоит высокий пожилой подполковник и, спросив мою фамилию, сказал, что я буду работать переводчиком в одной из военных комендатур. Вообще переводчики работали в торгово-бытовых предприятиях — ТБП, в разных представительствах. Забегая вперед скажу , что я очень доволен тем , что мне посчастливилось – именно посчастливилось — пройти великолепную языковую школу и школу жизни именно в комендатуре! Но об этом позже.
Мы сели в «УАЗик» — стандартный командирский автомобиль, и поехали с востока ГДР к западной границе. Путь занимал несколько часов. В машине царила тишина. Комендант молчал. Мне было немного не по себе от такой «молчанки». Но я не мог позволить себе заговорить первым.
Я ехал по неизвестной, пока, для меня немецкой земле.
С неподдельным интересом я рассматривал множество иностранных автомобилей, которые транзитом ехали из Западного Берлина в Западную Европу. Я смотрел на ухоженные дворики и индивидуальные дома немцев и думал: » Ну почему наши люди не имеют возможности свободно, без бюрократических барьеров, общаться с такими же гражданами других социалистических государств? Ведь есть на что посмотреть, есть чему поучиться!» Но даже здесь пока еще «висел железный занавес».
Вдруг комендант задает первый и необычный для меня вопрос:
- Надолго ли к нам?
Честно сказать — я опешил от такой фразы. В голове пролетела мысль — ведь мы подписывали контракт на 3 года, а тут такой вопрос?! Я извинился и спросил:
- А почему Вы задаёте мне такой вопрос?
Комендант, сидя на переднем сиденьи «старшего машины», обернулся, окинул меня проницательным взглядом, и говорит:
- Да Вы у нас уже будете третьим переводчиком за несколько месяцев!
Холодный ветерок пробежал по спине, и в голову полезли дурные мысли — что могло случиться с моими предшественниками? И здесь комендант начал свой рассказ, из которого я узнал следующее.
Была у них женщина-переводчик. Хорошо разговаривала на немецком языке. Но работа в комендатуре связана с постоянной готовностью к выездам на разные происшествия и днем и ночью, и в выходные дни и в праздничные. Она стала «капризничать» и с ней пришлось расстаться.
Затем был 36-летний переводчик-мужчина. Но он был очень неустойчив к изобилию спиртных напитков, от разнообразия которых в немецких магазинах, особенно в так называемых магазинах «Деликат», действительно могла пойти голова кругом, ведь хотелось все попробывать – и разные коньяки, и в огромном количестве разные ликеры, и вина, и советская экспортная водка. Зачастую его не могли найти в те моменты, когда надо было выезжать на вызов — где-то кутил. Комендант рассказал, что последней каплей в чаше терпения стал трагикомичный случай. Однажды вечером, приняв очень большую дозу спиртного в офицерском ресторане, по дороге домой этот человек в темноте заблудился и, устав бродить, лег под сосной и уснул. А эта была охраняемая караулом территория.
Очнувшись от холода, он начал громко кричать и ругаться на немецком языке. Караульный, согласно Уставу, доложил начальнику о каком-то немце на охраняемой территории. По тревоге был поднят караульный наряд, «немец-диверсант» был задержан и тут же ночью доставлен в комендатуру. Надо сказать, что все переводчики комендатур носили только гражданскую одежду, поэтому внешне и сразу отличить их от местных жителей трудно. Только дежурный офицер по комендатуре узнал в нем переводчика! Через несколько дней этот горе-переводчик был отправлен «в Союз за 24 часа».
Послушав рассказы коменданта, я понял — какие сомнения одолевали его. Я сказал, что буду стараться не создавать проблем в работе. Он кивнул головой и опять замолчал.
Между тем мы приехали. Машина остановилась на автостоянке возле высокого здания. Это было старое, но отреставрированное, трехэтажное здание бывшей почты – об этом мне позже рассказали местные жители. Оно стояло рядом с немецкой строительной конторой, служащие которой очень тесно общались с работниками комендатуры. Они хорошо знали автомашину коменданта и знали, что комендант должен привезти нового переводчика. Кто-то наблюдал из окна, кто-то стоял возле входа – но все пристально смотрели на меня. Вот так шоу! Не приходилось мне еще испытывать на себе столько пристальных взглядов, да к тому же еще и немцев! Я достал из машины чемодан и пошел к зданию.
Возле входа перед зданием комендатуры стояли офицеры.
- Это наш новый переводчик, знакомьтесь, — сказал комендант.
Строго по военному они представились по очереди и значимости своих должностей.
Старший помощник коменданта — капитан, был старше меня на 9 лет, подтянут, аккуратен, военная форма сидела на нем как на образцовом манекене, симпатичен.
Старший инспектор «ВАИ»- (военной автоинспекции), также капитан, был немного грузноват, но более вольяжный, черноволосый, с низким голосом и … не очень отглаженными брюками (это сразу бросилось в глаза).
Рядом с ним стоял прапорщик — помощник старшего инспектора «ВАИ». Он был невысокого роста, кругленький с ног до головы, с добрыми веселыми глазами, с шикарными усами и ногами кавалериста — настоящий казак, и говорок у него был необыкновенно забавный — смесь русского и украинского языков.
На лицах офицеров, и в их глазах, читалась настороженность. Я был одет в новенький красивый костюм с модным галстуком, в новеньких красивых туфлях и с прической «а-ля-битлз», что немного не соответствовало военным нормам. Но я был гражданским лицом. Я уже знал, практически, все о моем предшественнике и чувствовалось, что мои будущие коллеги не ожидали увидеть после хмельного лица уехавшего несколько дней назад «старого» переводчика совершенно другого, молодого и с иголочки одетого. Наряду с вопросами «откуда?», они сказали:
- Покажите вкладыш с диплома с оценкой по немецкому языку.
Я немного был удивлён такому проявлению интереса, но достал документы и показал их «любителям цифровой грамоты». Удовлетворившись, они задали еще один вопрс:
- А как Вы относитесь к спиртным напиткам?
- Вообще-то я равнодушен к данному питью, тем более, что я немного занимаюсь «дзю-до».
Они переглянулись и сказали:
— Ну, что ж, посмотрим?
Меня разместили буквально в 100 метрах от здания комендатуры в двухэтажном особняке на втором этаже. Туда меня привел помощник коменданта. Он открыл дверь в коридор двухкомнатной квартиры на втором этаже со всеми, как говорится, удобствами и двумя печками-каминами в каждой комнате и сказал, что у меня есть час времени на размещение и затем мы будем знакомиться с предстоящей работой. Кстати, в этом доме до войны жила семья одного немецкого офицера «вермахта», дочь которого приезжала к нам в комендатуру и хотела выяснить – как ей вернуть семейный «очаг». У меня состоялся с ней очень интересный разговор на эту тему. Хотя сегодня этот дом, наверное, им уже возвращён.
1. Комендатура и ее задачи
Осмотрев свою квартиру, я не стал ждать предложенный мне целый час, решил пойти в комендатуру почти сразу после размещения. Придя в кабинет, который находился на первом этаже рядом с помещением дежурного офицера, я начал рассматривать свое будущее рабочее место. Небольшая, но уютная комната с диваном и двумя креслами, немецкий двухтумбовый стол, телефон, достаточно широкое окно с видом на проезжую часть и целая куча немецких документов, которые еще не были переведены на русский язык. Когда приступаешь к любому новому делу, в самом начале трудно себе представить масштабы и объемы работы. Так и я, с точки зрения теории, все пока понимал, но, когда столкнулся с первыми делами, то понял, что придется «туго затянуть пояс.» Посмотрев на тексты непереведенных немецких документов, среди которых были многостраничные документы с подробным полицейским расследованием дорожно-транспортных происшествий и описанием поврежденных автомобильных деталей, сообщения из немецких страховых организаций, сообщения и письма граждан о хищении их собственности советскими военнослужащими — я понял, что мне придется многому переучиваться, а кое-что вообще осваивать для себя как новое. Я как чувствовал — уезжая из дома, взял с собой несколько «нужных» словарей.
Но очень скоро меня позвал комендант в свой кабинет, где дал мне почитать «Положение о военной комендатуре на территории ГСВГ», сказав, что я должен в первую очередь обратить внимание на пункты, касающиеся обязанностей переводчика. Надо сказать, что работа переводчика в тех условиях кардинально отличалась от работы переводчика в гражданской жизни. Одним из самых суровых пунктов этих обязанностей был пункт об уголовной ответственности согласно статье 142 УК РСФСР за неправильный как устный, так и письменный перевод. Мне был выдан под расписку специальный штамп, который я был обязан ставить на каждый переведенный мною документ — а это были документы от немецких организаций, немецкой полиции, письма от немецких граждан. Что меня вначале удивило, но затем стало нормой, так это то, что мною должны были быть также переведены и проштампованы с моей подписью все выписываемые в немецких магазинах счета на товары, приобретаемые представителями воинских частей. Только после этой процедуры военнослужащие несли эти документы в финансовые отделы своих воинских частей. Это меня заставило еще более серьезно отнестись к делу.
Но главная задача комендатуры состояла в решении всех проблем и вопросов между местным населением и советскими военнослужащими.
К вопросу о дисциплине. Помощник коменданта сказал, что я обязан всегда ставить дежурного офицера по комендатуре в известность о месте своего нахождения в нерабочее время, так как может где-то произойти дорожно-транспортное происшествие с участием советского автомобиля, хищение или еще что-нибудь — о чем сообщают по телефону представители немецкой полиции. Надо сказать, что в компетенцию нашей комендатуры входило сотрудничество с четырьмя административными немецкими районами. А это была очень большая территория — два «отрезка» автобанов из Берлина в сторону Брауншвейга и из Берлина в сторону Лейпцига, к тому же все прилегающие большие и маленькие городки и населенные пункты.
После разговоров с руководством комендатуры мне стало интересно — как же это наш дежурный офицер поймет то, о чем ему сообщит немецкий дежурный офицер? Я подошел к рабочему месту дежурного офицера и увидел на столе под стеклом простую шпаргалку с несколькими немецкими фразами, написанными русскими буквами с одной стороны и с переводом на другой стороне. Я заулыбался, но все понял. Первая из них была написана так — » Дэр долмэтчэр коммт ин цэйн минутэн», что в переводе означает — » переводчик придет через десять минут». Но эта фраза говорилась дежурным только тогда, если я находился дома и не сообщал о своей долговременной отлучке. За это время посыльный солдат должен был прибежать ко мне домой, и позвать к телефону. Но если я уходил надолго, то вместо 10 минут дежурный называл «драйсихь минутэн» — т.е. 30 минут, и тут же за мной выезжала машина. Конечно, многие советские офицеры учили в военных заведениях немецкий язык, так же как и немецкие, поэтому иногда они кое-как общались между собой, но, все-таки, немецкая педантичность заставляла их следовать фразе советского офицера и перезвонить переводчику для того, чтобы уточнить все необходимые детали происшествия.
Уже в те годы я увидел недостатки в подобных ситуациях, когда терялись иногда драгоценные минуты, а то и часы, особенно при серьезных случаях, которые происходили в каком-нибудь отдаленном уголке нашего комендантского района. Мы приезжали на место происшествия с большим опозданием, и иногда это вызывало ироничные улыбки у наших немецких коллег, но никогда не высказывались (в глаза) какие-то упреки или возмущения.
Да, это сейчас можно было бы использовать автомобильные телефонные станции, мобильные телефоны для сотрудников, и все проблемы решались бы оперативно. Но, тогда в большинстве случаев, немецкие коллеги относились к нашим опозданиям с пониманием. Были случаи, когда мы достаточно быстро прибывали на место происшествия и тогда слышали радостное «Bravo, Freunde!»- «Браво, друзья!» Кстати, в общении между собой восточно-немецкие граждане называли советских граждан «Freunde»-друзья.
Следующим атрибутом на рабочем месте дежурного офицера была большая схема комендантского района, расположенная на стене. С помощью электрических тумблеров можно было включать цепочку лампочек, обозначавших маршруты движения патрулей, расположение караулов, места передвижных постов ВАИ.
Как я уже писал, в здании комендатуры в прошлые времена находилась немецкая почта со всеми дворовыми подсобными и прочими помещениями. Так вот одно из двухэтажных зданий было приспособлено под спальное помещение для солдат-водителей комендатуры на втором этаже, а внизу — гаражные помещения. Ниже, в подвалах — три раздельных помещения для задержанных за разные нарушения воинской дисциплины солдат, сержантов и прапорщиков. Кстати, для офицеров подобное помещение размещалось непосредственно в здании комендатуры между первым и вторым этажом. Было еще одно здание, в котором размещались душевые комнаты для сотрудников комендатуры. Это здание имело в последствии интересную историю, о которой я расскажу позже. За этими зданиями были две площадки — одна спортивная, другая — штрафная стоянка для задержанных автомобилей — также имеет свои истории.